Гражданское право имеется только особая область права по большому счету, и потому, конечно, к нему применимы все неспециализированные законы, в нем отражаются все судьбы этого последнего.
Как мы знаем, право имеется некая социально-психотерапевтическая сила, регулирующая поведение людей; оно имеется некое состояние общественной воли и общественного сознания, заключающее в себе психологическое принуждение индивида к известному поведению. Как явление социальной психологии право есть, так, несомненной действительностью, фактом эмпирической действительности, частью из мира сущего.
Его действие и существование ощущаются всеми, и исходя из этого конечно, в случае если развивающаяся идея человека, в первую очередь, обращается к познанию права, как оно имеется, как оно действует. Целью познания есть констатирование существующих в данном обществе норм и установление их настоящего содержания ввиду ярких практических заинтересованностей судьбы.
Это констатирование в постепенном развитии ведет к систематизации правовых норм, к установлению, более научных, приемов их толкования и т.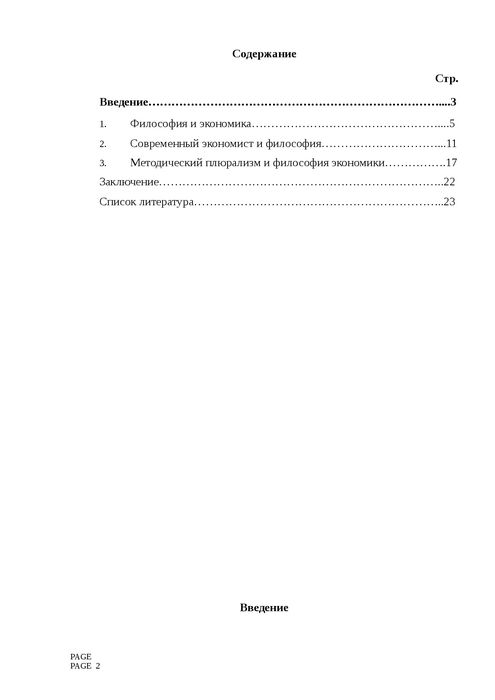 д., словом, к тому, что именуется юриспруденцией догматической. В данной области наука гражданского права ранее вторых отраслей правоведения достигла большого уровня и, возможно сообщить, сейчас есть руководящим примером для них. Разъясняется это тем ранним развитием гражданского права в Античности, о котором было сообщено выше: уже под руками римских юристов область гражданского права купила стройный и до узких подробностей созданный вид.
д., словом, к тому, что именуется юриспруденцией догматической. В данной области наука гражданского права ранее вторых отраслей правоведения достигла большого уровня и, возможно сообщить, сейчас есть руководящим примером для них. Разъясняется это тем ранним развитием гражданского права в Античности, о котором было сообщено выше: уже под руками римских юристов область гражданского права купила стройный и до узких подробностей созданный вид.
Но как бы на большом растоянии ни шло развитие догматической юриспруденции, она постоянно имеет собственный логический предел: она имеет дело с правом, как оно имеется, т.е. с правом хорошим, действующим в границах данного национального целого. Не изменяя собственному назначению познать право как некую совокупность реально действующих норм, догматическая юриспруденция неимеетвозможности выйти за пределы данной действительности, неимеетвозможности взяться за какие-либо иные вопросы: самые ее способы пригодны лишь для ее яркой задачи.
В это же время право интересует людскую идея не только с данной стороны. Оно имеется не только явление из мира сущего, но одновременно с этим и некоторое стремление в мир должного. Оно имеется не просто социальная сила, давящая на личную психику, а сила стремящаяся, ищущая чего-то вне ее лежащего.
Оно хочет не просто подчинять себе человеческое поведение, а подчинять его в интересах какого-либо высшего блага. Оно имеется не самоцель, а только средство с целью достижения некоей цели; целесообразность имеется значительное свойство права и его животворящее начало. Благодаря этого любая норма права предстоит отечественному сознанию не только с позиций ее д а н н о с т и , но и с позиций ее д о л ж н о с т и ; мы не только стремимся ее познать как она имеется, но одновременно с этим оценить, как она должна быть.
Уже простое использование юридических норм к фактам действительности должно было весьма рано понять, что использование одних норм приводит к удовлетворению этического эмоции, эмоции справедливости, меж тем как использование вторых ведет к обратному — к эмоции несправедливости. Вместе с тем в случаях последнего рода с психотерапевтической неизбежностью норме действующей, но несправедливой, в мыслях противополагается вторая норма — недействующая, но честная, — та, которая обязана бы функционировать вместо настоящей.
На земле этого элементарного этического эмоции неспешно начинается философская рефлексия, которая уже в Античности ведет к зарождению идеи так именуемого естественного права. Праву, действующему и хорошему, которое считается продуктом произвольного людской установления, противополагается право естественное, jus naturale, представляющееся отражением полного мирового разума либо правящей миром божественной сущности.
Право хорошее начинает подвергаться оценке с позиций права естественного, и перед людской мыслью развертывается множество вопросов совсем иного порядка, чем те, с которыми имеет дело догматика права. В случае если для последней хорошее право имеет конечное и самодовлеющее значение, то для теории естественного права оно лишь предмет оценки, что-то, подлежащее или утверждению, или отрицанию в зависимости от его согласия либо несогласия с полными началами справедливости и разума.
Взяв собственную первую формулировку в учении греческих философов, мысль естественного права уже у римских юристов купила важное практическое значение: естественное право и справедливость, jus naturale и aequitas, довольно часто рассматриваются ими как источники гражданско-правовых норм и влияют на толкование этих последних. Вытекая из самой природы вещей, из самого мирового разума, естественное право, в представлениях римских юристов, стоит, само собой разумеется, над правовыми совокупностями отдельных национальностей, образовывает некое общенародное право — jus gentium, и потому мысль естественного права большое количество содействует вышеуказанному процессу превращения римского права в право универсальное. Не меньшую помощь находит себе в естественном праве и вторая главная тенденция древнего праворазвития — индивидуалистическая: провозглашая, что с позиций естественного права все люди свободны и равны, эта теория содействовала ослаблению всяких ограничений и исторических зависимостей.
Вместе с римским и греческой философией правом мысль естественного права пробралась к новым народам и в течение всей предстоящей истории образовывает неотъемлемую принадлежность юридического мышления. Jus naturale и jus positivum, aequitas и jus scriptum’а — на данной противоположности покоится вся средневековая юриспруденция.
Идея о том, что естественное право есть источником юридических норм и что оно призвано восполнять, в противном случае кроме того и исправлять хорошее право, — эта идея купила в средневековой юриспруденции значительно громадную распространенность, чем это было в римском праве. Временами кроме того в виде неспециализированного принципа провозглашается, что jus naturale potius est, quam jus positivum и что, в случае если хорошее право оказывается противоречащим справедливости, решающей нужно признать эту последнюю.
Этому содействовали, само собой разумеется, в значительной мере, смешение естественного права с предписаниями религии и неспециализированный теологический темперамент средневековых естественно-правовых учений. Равным образом, еще в основном, чем в древности, мысль естественного права содействовала формированию тенденций индивидуалистических и универсалистических, и в этом отношении она трудилась рука об руку с римским правом. Недаром это последнее довольно часто признавалось за самый писаный разум, за ratio scripta.
Мысль естественного права тянется непрерывно через всю историю умственного развития Западной Европы. Временами она пара ослабевает, в то время, когда в силу тех или других обстоятельств юридическая идея обращается в основном к изучению хорошего права; временами же она улучшается и делается главным тоном всего умонастроения эры. интенсивность и Особенную глубину естественно-правовое настроение, как мы знаем, купило в XVII и XVIII столетиях, — в эру, которой и дается по преимуществу наименование эры естественного права.
Подъем естественно-правового настроения как раз в эту эру психологически ясен. Это были последние столетия ветхого режима, время, в то время, когда данный последний начал казаться особенно давящим и невыносимым. По мере того как исторически сложившийся на земле феодальных взаимоотношений строй выяснялся все более и более противоречащим новому правосознанию, крепло отрицательное отношение к тому праву, которое разрешило и поддерживало данный строй, т. е. к праву хорошему.
Чем более то, что наблюдалось в конечном итоге, казалось несправедливым и неразумным, тем бросче выступала мечта о праве полностью честном и полностью разумном, т. е. о праве естественном.
В учениях многих мыслителей эта мечта взяла себе философское обоснование и более правильную формулировку; из столкновения естественно-правовых совокупностей мало-помалу выявлялись неспециализированные начала данной грезы — свобода, братство и равенство. С жаждой осуществления данной грезы соединялась вера в его легкую возможность. Желаете вы иметь хорошие законы? — задавал вопросы Вольтер и отвечал: Так сотрите с лица земли ветхие и напишите новые.
В случае если до сих пор законы устанавливались законодателями неразумно и своекорыстно, то сейчас стоит лишь дать свободу разуму, и он создаст сходу наилучшие учреждения. Вера во всемогущество людской разума, в его свойство перестраивать жизнь методом законодательства образовывает броскую характерную линии данной эры.
Великая французская революция, как мы знаем, явилась тёплой попыткой осуществления данной грезы; это был поразительный по собственному подъему опыт перестроения людских взаимоотношений по началам естественного права, как оно рисовалось тогда, в особенности в учении Ж.-Ж. Руссо. Мгновенно весами уничтожались ветхие университеты и на их место создавались новые;
свобода, братство и равенство стали официальными лозунгами правительства; вера в разум отыскала себе кроме того внешнее выражение в культе всевышнего-разума. Казалось, что общество взяло полную свободу для осуществления собственной грезы и что осуществление это близко. Но надежда была одураченной.
Явившись кульминационным пунктом естественно-правового настроения, революция привела это настроение к кризису. Начав с провозглашения прав гражданина и человека, она кончила тем, что начала попирать самые элементарнейшие из этих прав. Абсолютизм, кроме того низвергнутый, оставляет еще на долгое время собственную отраву в народной психологии, соблазняя к замене произвола правительственной бюрократии произволом народа либо, лучше сообщить, произволом партийной демагогии.
В кошмарах террора погибла вера в человеческий разум, в возможность установления методом правды и царства законодательных декретов разума. Энтузиазм сменился упадком, порыв вперед сменился оглядыванием назад, жажда реформ сменилась тоской по самому спокойствию и элементарному порядку; меньше — революция сменилась реакцией.
Но все же данный подъем не остался без следа. Нам уже приходилось упоминать о том, что он смыл практически все остатки ветхого феодализма в гражданском праве и завершил прошлое многовековое перемещение к освобождению лиц и имушеств. Вследствие этого он стал причиной созданию первых больших кодификаций.
Мы видели выше, что состояние гражданского права к концу XVIII века характеризовалось крайней неопределённостью и пестротой, с которой не имела возможности мириться развивающаяся экономическая судьба. Чувствовалась повсеместная потребность в упорядочении и известном объединении гражданско-правовых норм. Естественно-правовое настроение присоединило к этому новый мотив — как раз необходимость рационализирования права, построения его на справедливости и общих началах разума: не о несложном, механическом соединении действующих норм обязана идти обращение, а о создании совсем нового организма права методом цельного кодекса, выстроенного на правилах права естественного.
Оба эти мотива, взаимно подкрепляя друг друга, привели на границе XVIII и XIX столетий к созданию трех известный в истории западноевропейского права кодексов — Прусского земского уложения 1794 г., Французского кодекса Наполеона 1804 г. и Австрийского уложения 1811 г.
Неоспоримую и огромную заслугу всех трех кодексов образовывает исполнение первой задачи — как раз упрощение и объединение права для данных государств, устранение вредной для запутанности и оборота пестроты. Но вторая задача — рационализирование права, построение его на началах права естественного — была осуществленной только в весьма скромных размерах и каждым из кодексов не в однообразной степени.
Начатые в эру подъема естественно-правового настроения, они были закончены уже в эру реакции, в то время, когда ужас перед революционностью естественно-правовых правил стал все более и более уменьшать широту начальных реформаторских заданий. сужения и Этот процесс сокращения мы можем констатировать в истории каждого из них.
Заметную роль сыграли идеи естественного права уже при составлении Прусского Уложения. Кабинетский Указ 14 апреля 1780 г., предписывавший составление проекта, предлагал положить в базу его право римское в согласии с правом естественным.
Но это естественное право понималось в смысле полицейского государства и просвещённого абсолютизма, благодаря чего мысль правительственной опеки над гражданами образовывает броскую характерную линии этого кодекса, приводящую к целому последовательности очень стеснительных положений. И, однако, опубликованный 1 июня 1792 г. проект позвал во влиятельных кругах опасения с позиций собственной революционности.
Пригодился новый пересмотр, по окончании которого из кодекса были выкинутыми кроме того такие скромные нормы, в большинстве случаев, что никто не может быть лишен собственных прав в обязательном порядке (при помощи Machtsprilche). А Указ 5 февраля 1794 г., возвещавший о вступлении (с 1 июня) в воздействие нового кодекса, упорно запрещал толкование его на основании каких бы то ни было философических мыслей (philosophische Raisonnements). Реакция, так, наложила собственную печать, но, не обращая внимания на это, как в самом построении, так и во многих понятиях Прусского земского уложения отражается неоспоримое влияние естественно-правовой теории.
Наивысшего напряжения идеи естественного права достигли, как ска-1ано, во Франции. Законодательство революционной эры с лихорадочной поспешностью стремилось освободиться от ветхого и реализовать в чистом виде правила естественного права. Тогда же появилась и идея в замен разрозненных законов выработать единый новый кодекс, выстроенный только на этих правилах.
Создаются и падают проект за проектом, но еще в окончательном проекте во главе всего кодекса (Livre preliminaire. Act. 1) стоит догмат: Il existe un droit universel et immuable, sources de toutes les lois positives: il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouveme tous les hommes.
Но по мере того как революция идет на убыль, энтузиазм к естественному праву и тут остывает, и при последнем пересмотре все это праздничное исповедание знака естественно-правовой веры выбрасывается.
Под строгим контролем Наполеона, принимавшего живое участие в дискуссии, кодекс, взявший его наименование, существенно пригибается к почва.
Однако, естественно-правовая база в Code civil так сильна, что он открывает собою в истории западноевропейского законодательства новую эру. Провозглашая уничтожение всяких всяких стеснений и привилегий личности, он завершает ту борьбу за свободу личной самодеятельности, которую вело со времен собственной рецепции римское право.
Признанием этого принципа независимости личности и индивидуальной автономии от какой бы то ни было — кроме того национальной — опеки французский кодекс совсем формулирует перестроение экономической судьбе на новых началах. Этим разъясняется большой авторитет этого кодекса и его широкое распространение за пределами Франции.
Наконец, тот же процесс постепенного усиления реакции мы замечаем и в истории происхождения Австрийского Уложения. Проект Мартини, послуживший основанием этого кодекса, есть по всему собственному построению естественно-правовым, приближаясь в этом отношении к начальным проектам Code civil. Но после этого и тут французская революция привела к реакции, и, по предложению Цейллера, все неспециализированные естественно-правовые объявления были из кодекса выкинуты.
Однако, их влияние сохранилось во всем кодексе неистребимо. Как и Французский кодекс, Австрийское уложение проникнуты принципом экономической свободы и индивидуализма. В этом отношении оно кроме того опережало настоящие хозяйственные условия страны, которая продолжительно должна была дорастать до него.
Сверх того, мысль естественного права как некоего особенного источника норм сохранилась в чистом виде в _ 7 Уложения, которым судье предписывается при отсутствии закона решать nach den natiirlichen Rechtsgrundsatzen. Параграф, что был продолжительно в забвении, но что, как заметим ниже, сейчас получает особое значение.
Так прошло по Европе первое кодификационное веяние. Вызванное настоящими потребностями экономической судьбе, оно одновременно с этим одухотворялось известными неспециализированными идеями, неспециализированными правилами. Пускай эти правила при окончательной обработке кодексов подверглись большой урезке, — по крайней мере, они послужили для кодификации в качестве руководящих начал при отборе позитивно-правового материала.
И будущее поняло, что чем полнее в кодексе отразились эти начала, тем жизнеспособнее он был. Это в особенности необходимо сообщить относительно кодексов французского и австрийского. Сто лет прошло со времени их издания; празднично был отпразднован их юбилей, и современная юриспруденция, уже имеющая перед собой образцы новейших кодификаций, почтила их с некоторым особенным пиететом: эти новейшие образцы как словно бы кроме того подняли сокровище столетних ветеранов.
Но реакция развиваласьпотом, и в общей воздухе разочарования и упадка, охватившего Европу по окончании революции, показалась, как мы знаем, историческая школа в юриспруденции, знаменующая собой полный идейный перелом. И первым вопросом, по поводу которого ей было нужно формулировать собственные воззрения, был как раз вопрос о кодификации.
Потребность в упорядочении и объединении гражданского права, привёдшая к изданию трех упомянутых кодексов, существовала, само собой разумеется, и в других частях Германии, не считая Австрии и Пруссии. Помимо этого, совместная борьба с Наполеоном и освобождение германских стран от французского владычества создали среди немцев неспециализированный стремление и национальный подъём к большему обоюдному сближению.
В частности, в области права появилась идея о желательности единого гражданского кодекса, что объединил бы нацию и создал бы базис для экономического общения. Потребность в этом последнем была так громадна, что высказывалась кроме того идея о реципировании французского кодекса, введенного перед тем Наполеоном в некоторых частях Европы.
В противовес этому течению выступил в 1814г. гейдельбергский доктор наук Тибо (в собственной книжке Uber die Noth-wendigkeit ernes allgemeines burgerlichen Rechts fur Deutschland) с просьбой к созданию собственного общегерманского гражданского Уложения. Как видим, мысль Тибо не заключала в себе ничего чрезвычайного: она была только естественным продолжением того перемещения, которое создало и Code Napoleon, и Австрийское уложение. Но времена изменились: реакционное настроение, отразившееся уже на самих этих кодексах, усилилось сейчас так, что кроме того самая идея о кодификации начала казаться неприемлемой.
В ответ на предложение Тибо в том же 1814 г. показалась известная по своим последствиям брошюра С а в и н ь и Vom Beruf unserer Zeit zur Ge-setzgebung und Rechtswissenschaft. В данной брошюре Савиньи решительно высказывается против предложения Тибо, причем в виде мотивировки излагает собственный новый взор на вопрос о ходе образования права и, например, на вопрос о роли законодательства.
Право не создается единичной волей тех или других отдельных лиц сообразно их жажде либо таким либо иным предвзятым неспециализированным началам. Оно есть органическим продуктом народного духа, развивающимся самопроизвольно и незаметно, подобно нравам и языку, в народной истории. Что же касается законодателя, то он, в лучшем случае, может лишь формулировать народное правосознание, а не творить.
Но кроме того и для для того чтобы формулирования Савиньи вычислял тогдашних юристов неподготовленными: для осуществления данной задачи нужно тщательное изучение истории права, которой тогда практически не существовало и в создании которой Савиньи усматривал первую задачу правоведения.
Книга Савиньи не изобилует научными доводами; она более формулирует новые идеи, чем их обосновывает. Не обращая внимания на это, она возымела необычайное воздействие. Она явилась наибольшим поворотным пунктом в истории публичной мыли и начала новоезамечательному направлению.
Идеи, высказанные Савиньи, разумеется, носились в воздухе эры, соответствовали неспециализированной воздухе разочарования в законодательном творчестве и естественном праве.
Все в этом новом направлении было антиподом прошлого.
В случае если неспециализированное настроение эры дореволюционной характеризовалось отрицательным отношением к настоящему, к историческому, — к тому историческому, которое давало себя ощущать в абсолютизме правительства, в произволе власти, в экономической связанности и сословных неравенствах, -то историческая школа, наоборот, подобно Гегелю, объявляла все настоящее
разумным и всем духом собственного учения проповедовала уважение к исторически сложившемуся, возводя его к глубинам народного духа.
В случае если естественно-правовые теории исходили из представления о некоторых полных, для всего человечества единых и вечных началах права, вытекающих из самой природы человека либо разумного людской общения, то историческая школа отрицала существование этих безотносительных начал и мыслила право, как что-то присущее каждому отдельному народу и всегда изменяющееся в зависимости от исторической судьбы этого последнего. В случае если естественно-правовые учения были проникнуты духом космополитизма и универсальности, то историческая школа, наоборот, выставила идею национальности как чего-то свободного и самодовлеющего.
В случае если эра дореволюционная жила верой в возможность сознательного перестроения людских обществ методом рационального законодательства, то историческая школа внушала полное неверие в это последнее. В качестве активного устроителя социальных взаимоотношений законодательство бессильно, а в нехорошем случае вредно; наилучшей формой образования права есть обычай: вытекая из тайников народного духа, простое право самый правильно отражает органическое самораскрытие народного правосознания. Всякое вмешательство чужой воли, хотя бы это была кроме того воля законодателя, способно лишь возмутить естественное и мирное развитие права, внести в него болезненность и дисгармонию.
В случае если естественно-правовые теории по своим способам были рационалистическими, то историческая школа явилась носительницей позитивизма. Все то, что провозглашалось за требования безотносительного разума, имеется, согласно точки зрения ее представителей, не что иное, как только субъективное мечтание отдельных умов. Благодаря этого всякие рассуждения на эту тему, всякие попытки дискуссии правовых норм, с позиций таких либо иных совершенств справедливости, были заявлены делом ненаучным, выходящим за границы юриспруденции как такой.
В конечном итоге, в случае если естественно-правовая школа была проповедью и исканием нового социальной активности, то историческая школа была, наоборот, проповедью квиетизма и консерватизма. Единственная дешёвая нам сфера деятельности в области права имеется, согласно ее точке зрения, сфера его объективного познавания, его исторического и догматического изучения.
Созданное исторической школой направление, не обращая внимания на отдельные, единичные протесты, с необычайной силой захватило публичную идея не только в Германии, но и в большей либо меньшей степени во всей Европе. Под его влиянием вспыхнул интерес к изучению истории права, и наука гражданского права взяла тот исторический фундамент, которого ей дотоле недоставало. С данной стороны заслуги исторической школы несомненны и незабываемы.
Но, иначе, появившись как реакция против крайностей естественно-правового идеализма, историческая школа сама впала в противоположные крайности и на некое время затормозила естественное развитие отечественной мысли, толкнув ее на фальшивые дороги.
Пара первых десятилетий XIX века историческая школа господствовала над умами практически всецело, но после этого неспешно — и чем потом, тем посильнее — начинается критика ее основоположений и освобождение от ее тенденций. известный представителем этого критического отношения к исторической школе есть И е р и н г , вышедший из ее же последовательностей и однако нанесший ей самые тяжкие удары. Мало-помалу критика пробила огромные бреши в идеологических построениях исторической школы и расчистила путь для нового перемещения вперед по прерванному ею пути.
Мы уже видели выше, в какой тупик зашла историческая школа с ее идеей национальности правового развития; но не меньше ошибочными, не меньше чреватыми массой вредных последствий были и ее другие тезисы -по крайней мере, в той категоричности, в какой они выставлялись ее самые крайними приверженцами. Отметим тут только самое значительное, что имеет яркое отношение к судьбам отечественного гражданского права.
В первую очередь, говоря о народном духе как о конечном источнике всякого права, историческая школа, отдавая дань романтизму, с которым она в значительной мере связана, сама создавала понятие идеалистическое, далеко не соответствующее настоящей действительности. Она предполагала народ как что-то единое и психологически цельное.
В это же время кроме того та история, к изучению которой так настоятельно призывала историческая школа, свидетельствовала о том, что право рождается довольно часто из столкновения разных социальных противоположностей в народа, что народ слагается из разнообразных более небольших групп — национальных, сословных, опытных и т. д., — правосознание которых сплошь и рядом радикально расходится. О том же еще более наглядно свидетельствовала самая жизнь XIX века, за который социальная разделение купила особенно внушительные размеры, и классовые противоположности обрисовались так быстро, что в учении экономического материализма они были заявлены кроме того единственными носителями правосознания.
Не подлежит сомнению, что правосознание нынешнего германского рабочего неизмеримо ближе к правосознанию французского либо британского рабочего, чем к правосознанию германского фабриканта либо агрария. Разумеется, что при таких условиях народному духу исторической школы в деле правообразования должно быть отведено значительно более скромное место.
Потом, говоря об органическом и безболезненном ходе самораскрытия народного духа, историческая школа до крайности идеализировала данный
процесс и опять впадала в несоответствие с показаниями истории, с ее свидетельствами о катастрофах и разнообразных революциях. Отправляясь как раз от аналогичных данных истории, Иеринг принужден был отбросить учение исторической школы и противопоставить ему учение о постоянной борьбе за право, без которой немыслим никакой прогресс.
Не как растение, не само собой раскрывается право в истории, а в борьбе и труде — в борьбе, как отдельных лиц, так и целых групп за собственные интересы и за новые понятия о честном. Тревожная, богатая всевозможными конфликтами именно на земле разных заинтересованностей жизнь XIX века подтверждала идея Иеринга красноречивее всяких сложных доказательств и многотомных исследований; ее необходимо было лишь высказать, дабы она в тот же час же сделалась теоремой.
Вследствие этого не имело возможности не измениться и отношение к законодательству. Как было указано, историческая школа провозглашала принципиальную непризванность законодателя к активной деятельности в области правообразования, в частности непризванность к кодификации. Под влиянием этого настроения всякие кодификационные испытания сходу оборвались.
В Германии идея о едином кодексе замерла вовсе; в других частях Европы, где в эру Наполеона введен был французский кодекс, кодификационные работы по необходимости сводились к некоему пересмотру этого последнего, к некоему приспособлению его к условиям страны (таковы, к примеру, Codice Albertino 1837 г. в Пьемонте, голландская переработка 1838 г. и т. д.). Идея же о создании чего-либо нового, проникнутого единой творческой мыслью законодателя, казалась недопустимой.
Но жизнь и тут чем потом, тем более не имела возможности мириться с пассивностью законодателя. Развитие экономического оборота требовалоустранения пестроты правовых норм; на земле классовых противоположностей появлялись очень тревожные трения; социальные неустройства потребовали таких либо иных мер для упорядочения борьбы, ограничения эксплуатации, охраны труда и т. д. Со всеми этими настоятельными потребностями жизнь обращалась не к кому иному, как как раз к законодателю, призывая его к разрешению распрей и к регулированию спорных взаимоотношений.
Уже практически в тот же час по окончании первого выступления Савиньи на защиту планомерной законодательной деятельности выступил известный германский криминалист Ансельм Фейербах, известный из создателей Баварского уголовного уложения 1813 г.; но тогда его голос раздался без ответа. Должны были пройти десятилетия, прежде, нежели ошибочность исторической школы стала очевидной. Необходимы были уроки судьбы, нужен был тот же Иеринг, что и в этом вопросе формулировал отказ от догматов исторической школы, уничтожив романтическое преклонение перед простым правом и провозгласив, что вступление народа на путь законодательства знаменует в истории народа пробуждение его социального сознания, наступление его социальной зрелости.
И вправду, в течение XIX века законодательная деятельность достигает опять большого напряжения. Кроме того, с половины столетия снова оживает идея о кодификации. Страны романские берут за пример французский кодекс, подвергают его некоей более либо менее большой переработке, и таким методом появляются Итальянское гражданское уложение 1865 г., Португальское 1867 г., Испанское 1888г.
Но кодификационная тенденция оживает ив Германии. По окончании событий 1848 г. германское национальное собрание признало желательным издание неспециализированных для всей Германии кодексов — гражданского, торгового, вексельного, судопроизводственного и уголовного. Но наступившая после этого новая реакция затормозила дело и в этом случае, и только в 1860 г. было издано общее для всей Германии торговое уложение.
Нужен был новый подъем национального чувства и общественного настроения, дабы опять поставить на очередь вопрос об общегерманском кодексе, столь нужном для неудержимо растущего и стирающего всякие перегородки экономического оборота. Таковой подъем пробудила победоносная война с Францией и создание единой Германии. В 1874 г. назначается рабочая группа для выработки проекта.
По окончании 14-летних работ, в 1888 г., первый проект вместе с мотивами был опубликован, но встретил с различных сторон самую тёплую критику. Громче всего раздавались упреки в том, что проект через чур романистичен (его прозвали кроме того мелким Виндшейдом, т. е. переложением Пиндшейдовского книжки римского права), что он игнорирует национальные современные требования и германские начала социальной справедливости.
Благодаря этого в 1890 г. была назначена для пересмотра вторая рабочая группа, и 17 января 1896 г. пересмотренный проект был представлен рейхстагу. Тут он был подвергнут новому неспециализированному пересмотру в особенной рабочей группе от рейхстага и в июне поступил в рейхстаг для второго чтения. Борьба партий пара раз ставила судьбу проекта в критическое положение, но все же 1 июля 1896 г. новый кодекс (с некоторыми поправками) был принят рейхстагом, 14 июля бундесратом и 24 августа был официально опубликован, причем вступление его в воздействие было отсрочено до 1 января 1900 г.
Примеру Германии последовала Швейцария. Тут кроме этого царила чрезвычайная пестрота национальных прав. В одних кантонах действовали разнообразные местные источники, в других (Женева, Бернская Юра) реципированный кодекс Наполеона, в третьих (Берн, Люцерн и др.) кантональные кодексы, составленные под сильным влиянием уложения Австрийского.
Но и тут подобная пестрота являлась тормозом для развивающегося экономического оборота, и тут остро ощущалась потребность в правовом единстве. Эта потребность в первую очередь была удовлетворена в области обязательственных взаимоотношений изданием в 1881 г. неспециализированного для всего альянса обязательственного права. Но это был лишь первый ход.
Единство было нужно не только в области обязательств, и в 1892 г. правительство поручает доктору наук Евгению Губеру выработать проект уложения.
Губер сумел мастерски выполнить возложенную на него задачу, и его проект, подвергнувшись по частям дискуссии в особых рабочих группах, 10 декабря 1907 г. взял силу закона (со вступлением в воздействие 1 января 1912 г.).
Не осталась в стороне от этих кодификационных течений и Российская Федерация. Выше было указано, что потребность в кодификации ощущалась у нас уже на всем протяжении XVIII века. Начиная с Петра Великого, тянутся практически непрерывно разнообразные кодификационные комиссии, каковые остаются, но, по самым разнообразным обстоятельствам без всяких результатов.
При учреждении этих рабочих групп правительство все время колеблется между двумя точками зрения: то оно возлагает на них задачу только кодифицировать действующее право, то оно предлагает им заняться составлением совсем нового кодекса. В начале XIX века при Александре I в дело составления Уложения входит в первый раз Сперанский, причем составленный им проект находится под очевидным влиянием пользовавшегося тогда повсеместным авторитетом Французского кодекса.
Но после этого борьба с Наполеоном и наступившая внутренняя реакция стёрли с лица земли эти начинания, а самого Сперанского стали причиной ссылке и опале. В то время, когда же он был возвращен и призван опять к кодификационной работе, настроение правительства значительно изменилось. Николай I в Указе 1826 г. определенно поставил задачей работ необыкновенное кодифицирование действующего права.
При неустанном участии того же Сперанского эта работа была, наконец, выполнена, и в историческом совещании Госсовета 19 января 1833 г. под руководством самого императора взяли собственную санкцию, как Полное Собрание Законов, так и Свод Законов, 1 ч. Х т. которого составляют Законы Гражданские.
Сводом Законов практическая потребность правосудия в некоем систематизированном собрании действующих законов была, само собой разумеется, в известной степени удовлетворена, но далеко не были удовлетворены потребности настоящей судьбе в соответствующем ей законодательстве. Составленная на основании ветхих законов, начиная от Уложения Царя Алексея Михайловича, 1 ч. Х т. Свода Законов уже в момент собственного издания не соответствовала настоящим потребностям судьбы — кроме того столь неразвитой, какою она была в столетия и первой половине.
Тем более она появилась неудовлетворительной с предстоящим течением времени, с освобождением крестьян, с другими реформами царствования Александра II, а в особенности с постепенным уничтожением ветхого натурального хозяйства и заменой его хозяйством промышленным и меновым. Отсталость и, возможно сообщить, неуместность отечественных Гражданских законов в далеком прошлом была исходя из этого признана и стала неспециализированным местом отечественного правосознания.
Ввиду этого в 1882 г. была образована рабочая группа для выработки проекта нового Гражданского Уложения, уже не связанная действующими законами. По окончании 17-летних работ рабочая группа начала производить в свет выработанный ею проект с пояснениями: сперва в 1899 г. проект обязательственного права, после этого в течение предстоящих годов, до 1903, остальные части.
Проект был разослан в различные судебные, правительственные и ученые учреждения для рассмотрения и после этого на основании представленных замечаний был пересмотрен, по окончании чего в 1905 г. была опубликована его вторая (а позже и окончательная, сводная) редакция. Но на этом дело и остановилось. Бурное время 1905-го и следующих годов поставило на очередь более большие задачи, а после этого, в то время, когда наступила реакция, проект стал уже казаться через чур реформаторским и мало национальным.
Вместо кодекса, правительство вступило на путь частичных поправок, разрозненных новелл, и только в 1913 г. был внесен в гос думу проект обязательственного права. Но, очевидно, страна ожидает не частичных новелл и не личной кодификации, а полного и цельного, выстроенного на в полной мере современных началах гражданского кодекса.
В стороне от кодификационного перемещения осталась лишь Англия, гражданское право которой и поныне покоится на нескончаемой массе исторически накопившихся судебных прецедентов, разбираться в которых не только гражданам, но и судам, очевидно, очень затруднительно.
Как бы то ни было, но XIX век, вправду, как подмечает Неdemann*(12), возможно назван веком громадных кодификаций. Финиш века возвратился к тенденциям собственного начала. Но для полной чёрта этого поворота нужно подметить еще следующее.
Как было отмечено, реакция против естественного права позвала в начале XIX века отрицательное отношение ко всякому философскому элементу в юриспруденции. Лишь историческое и догматическое изучение хорошего права признавалось хорошим имени научного; все, что выходило за пределы этих хороших изучений, отметалось как незаконное детище ветхого естественно-правового направления. Доходило кроме того до того, что любая попытка философии права объявлялась чистейшим шарлатанством.
Но и тут жизнь вынудила сдвинуться с данной позиции. Как только что было сообщено, эволюция XIX века ставила все более и более настойчивые требования, направленные к законодательству, об активном вмешательстве в сферу социальной борьбы, об урегулировании назревших распрей методом издания соответствующих норм.
Но для удовлетворения этих требований нужно было не только изучение положения с позиций его истории и с позиций его догматики, но и оценка его с позиций правовой политики. Жизнь задавала вопросы не о том, что было, и не о том, что имеется, а о том, как должно бытье точки зрения разумного и честного.
Продолжительное время юриспруденция отмахивалась от этих вопросов, считая обсуждение правовых норм с данной точки зрения, с позиций de lege ferenda, выходящим за пределы ее задач. Результатом,впрочем , было лишь охлаждение общества к юриспруденции и обоюдное отчуждение, заставлявшее многих, подобно Штаммлеру, вспоминать изречение Лютера: Юрист, если он лишь юрист, жалкая вещь! Наконец, такое воздержание стало совсем немыслимым: кодификационные работы, предпринятые во второй половине XIX века, призвали юриспруденцию кроме того ex officio к дискуссии вопросов с позиций законодательной политики.
Но никакая разумная и сознательная политика, разумеется, немыслима без предварительного разрешения вопросов о том, в чем же заключаются цели права по большому счету, где критерий честного и разумного. Как бы ни отвечать на эти вопросы, но, по крайней мере, отвечать нужно, потому что без для того чтобы либо иного ответа все отечественные законодательные построения будут лишены надлежащей телеологической ориентировки.
Временами мы можем инстинктивно угадывать неспециализированное направление для отечественного перемещения, но нужную уверенность это последнее может купить лишь тогда, в то время, когда неизвестное угадывание будет заменено ясным сознанием. До тех пор пока царила вера исторической школы в неизменную разумность правообразования из глубины народного духа, все подобные вопросы имели возможность иметь лишь чисто теоретическое значение; фактически тревожиться было не о чем: естественное развитие этого народного духа само собою приведет к тому, что в этот исторический момент вероятно. Но в то время, когда эта вера была подорвана, в то время, когда вместо пассивного выжидания общество выяснилось призванным к активному правотворению, к борьбе за право, вопросы о том, во имя чего бороться, чего хотеть, куда идти, купили неотвратимое практическое значение.
Конечно, что перед лицом этих вопросов позитивистическая юриспруденция была беззащитной и растерянной: у нее не было ни подготовки, ни способов к их трактованию. И не так долго осталось ждать неспециализированным настроением юриспруденции стало то, которое выразил Гирке своим известным восклицанием: Мы должны отыскать ее, эту потерянную идею права, в противном случае мы сами себя утратим!
И вправду, финиш XIX века — начало XX знаменуется в истории гражданского правоведения исканием данной потерянной идеи права, этого честного либо верного права и т. д. Эти поиски, со своей стороны, привели не к чему иному, как к восстановлению того, что казалось похороненным окончательно — к восстановлению естественного права. С различных сторон заговорили о природе вещей в социальных отношениях, о неизменных моральных сокровищах и т. д. XIX век, умирая, возвратился к тем идеям, каковые он слышал в собственном раннем детстве, но каковые он позже так шепетильно старался заглушить в себе в течение всей собственной жизни. Дух Фейербаха победил дух Савиньи, констатировал еще в 1894 г. Бехманн.
Но данный поворот лишь весьма слабо и односторонне отразился на законодательстве финиша века. И в этом отношении заметна огромная отличие между кодексами начала и кодексами столетия его финиша.
Кодификационные работы финиша XVIII столетия начинались в разгар естественно-правового настроения с горячим намерением создать что-то полностью новое, формулировать вечные идеи разума и справедливости. Действительно, после этого под влиянием наступившей реакции задания неспешно понижались, и естественно-правовые идеи затуманивались, но все же они не исчезали совсем. Печать естественно-правового происхождения лежит и на Code civil, и на Австрийском Уложении, и эта печать придала им и практическую живучесть, и некий теоретический блеск. Мысль права, не смотря на то, что и существенно затуманенная, все еще чуется во всей их совокупности, во всем их построении.
Совсем иное чувство получается от кодификаций финиша XIX столетия, в особенности от самой монументальной из них — от общегерманского гражданского уложения. Все оно является памятникомобширнейшей учёности и колоссального труда; по последовательности вопросов мы отыщем в нем и храбрый разрыв с устаревшим прошлым, и новые идеи.
Но в целом оно создаёт чувство крайнего эклектизма, разностильности: разрыв с прошлым и порывания в будущее не связаны единством неспециализированного направления, единством какой-нибудь главной идеи. Еще по поводу первого проекта Б е к к е р справедливо отмечал, что ему недостает художественной радостного творчества и силы. Никакие исправления и позднейшие пересмотры не могли устранить этого недочёта: Германское Уложение носит на себе печать усердного труда, но не весёлого творчества.
Значительно больше цельности воображает уже в этом отношении Швейцарское Уложение, и любопытно то, что современная юриспруденция относится к этому младшему брату с какой-то большей симпатией, чем к старшему. Секрет этого предпочтения, возможно, прячется в некоем осуществлении той мысли, которая руководила Губером при составлении его проекта и которую мы находим в его объяснениях: Великие идеи, общие истины сознательно либо бессознательно лежат в базах отечественного правосознания, и законодатель ничем неимеетвозможности так усилить и укрепить чувство от собственного произведения, как в случае если ему удастся выразить их в его редакции*(13).
Так, дух искания опять повеял в юриспруденции. Она почувствовала всю беспомощность и свою слепоту без всеобщих истин и великих идей, и позитивизм прекратил ее удовлетворять.
Удивительные статьи:
- Происхождение мифа, метод и средства его изучения 4 страница
- Эда» (1824) и другие поэмы
- Громкие слова, тихие слова 8 страница
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
I. понятие гражданского права и вопрос о его социальной ценности
Главные неприятности гражданского права I. Понятие гражданского права и вопрос о его социальной ценности II. Исторические корни современного гражданского…
-
Ii. исторические корни современного гражданского права. национальные и универсальные элементы в нем
Институты гражданского права — семья, собственность, наследование и т. д. — составляют глубокую юридическую подпочву всякого общества. Благодаря этого…
-
Iv. философские предпосылки гражданского права. проблема личности и государства
Новое время, так, ищет потерянную идею права, ту главную идею, которая имела возможность бы ориентировать нас в отечественной оценке всех отдельных…
-
Vi. проблема прочности права. вопрос о субъективном гражданском праве и о злоупотреблении правом
В случае если первым требованием развивающейся личности к правопорядку есть требование определенности права, то вторым есть требование его прочности. Но,…





