В. Р. Дольнику
Мне бы не хотелось обнаружить в этом стиль…
Другими словами мне бы не хотелось, дабы эффект, которого я собирается достигнуть, объяснившись с вами по, казалось бы, совсем случайному и не тревожившему вас вопросу, с тем дабы вы взволновались также, кроме того не взволновались… а, так сообщить, «взмыслились», что ли, — мне бы не хотелось, дабы эффект данный принадлежал стилистике, а не тому, что я желал бы вам на данный момент сообщить.
Более того, неожиданное, несмотря ни на какие конкретно мои намерения, слабохарактерное обнаружение получающегося стиля, его неизбежность повергают меня как раз в то самое ожидаемое удручение и уныние, которых, возможно, я самый и пробую избежать, прикрываясь задачей. Потому что наличие стиля в том, что я изложу, будет каким-то образом противоречить тому, что я планирую сказать.
Мы живем на дне воздушного океана. Среди домов и деревьев, как меж водорослей и ракушек. И вот ползет таковой краб, скребя своим дном по асфальту, с панцирно-неподвижной шеей, задерет только ненароком голову, переползая событие на пути, — в том месте полощется небо, в нем повисла, еле шевеля плавниками, птица.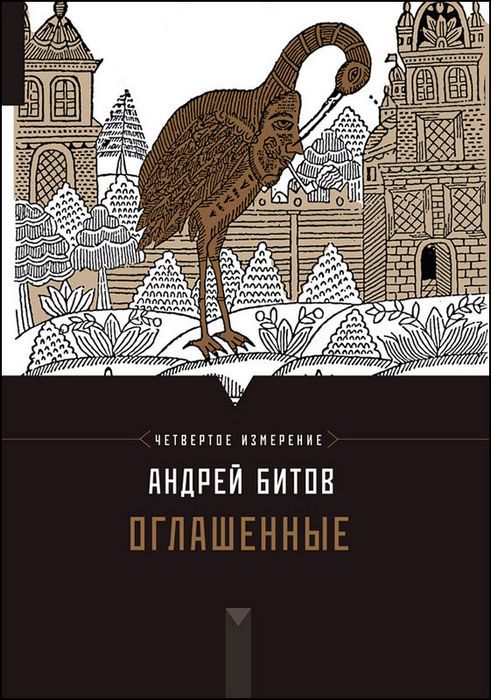
Птицы — рыбы отечественного океана.
Мы живем на границе двух сред. Это принципиально. Мы не то и не второе.
Лишь птицы и рыбы знают, что такое одна среда.
Они об этом, само собой разумеется, не знают, а — принадлежат. Вряд ли и человек стал бы вспоминать, если бы летал либо плавал. Дабы задуматься, нужно несоответствие, которого нет в однородной среде, — напряжение границы.
На данной границе инцидент и постоянный конфликт. Мы — напряжены, мы расслабляемся только во сне — в какой-нибудь отрысканной безопасности, как под камнем. Сон — отечественное плавание, единственный отечественный полет. Посмотрите, как тяжко идет человек по земле…
Как словно бы ему больно. То ли асфальт под ногою через чур жёсток, то ли обувь тесна, то ли рабочий сутки продолжителен, то ли сетки оттянули руки. Вот его поступь.
«Посмотрите на птиц небесных…
…они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Папа ваш Небесный питает их. Вы не значительно ли лучше их?»
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего;
У вас же и волосы на голове все сочтены;
Не опасайтесь же: вы лучше многих малых птиц».
Легко сообщить, не опасайтесь…
Опасаюсь, что данный текст в каком-то смысле обобщает все, что мы знаем о птицах.
Птицы необычным образом отсутствуют в нашей жизни, не смотря на то, что с несомненностью наблюдаются невооруженным глазом. Словно бы летают на краю отечественного сознания как нарисованные именно на внутренней стороне того колпака, которым мы накрыли обитаемый мир. Кажущиеся сейчас столь наивными представления о небесном своде — по сути, правильная внутренняя граница отечественного знания, которую заявили внешней.
Данный непрозрачный колпак, что мы несем с собою, чуть колышется при каждом шаге. Птица летает неизменно на краю его, и приблизиться мы к ней не можем- в том месте кривизна, загиб, соскольз…
Так что птица — имеется, и ее — нет. Мы наблюдаем по природе все-таки под ноги, задирать голову — роскошь. От Аристофана до Хичкока — нет птиц, а имеется вызванные ими представления.
Птицу возможно разглядеть только мёртвую, еще ее возможно подстрелить и съесть. Но контакта нет. Это так же как и с небесным сводом: мы уже знаем, что он в том месте не кончается, но почва для повседневной судьбы остается плоской, а обозримость накрыта сферой опыта, как крышкой.
Я берусь утверждать, что с птицей мы сталкиваемся (в буквальном смысле — столкновения…) в мельчайшей степени из всех живых существ. Тяжело представить себе, что вы к ней прикоснулись, погладили либо что она вас клюнула. Она себе летает.
Яркого опыта общения у нас значительно больше с более далекими отрядами уменьшенных возможностью эволюции существ: скажем, с мухами. Самолет так же, как и прежде не напоминает птицу, но вертолет отвратительно похож на стрекозу.
Хичкок совершил детство в чучельной лавке стал основоположником фильма кошмара и величайшим его представителем, а шедевр его — фильм «Птицы», стартовым допущением которого явилось, что птица клюнула человека, не защищаясь, а нападая. В мастерстве птица — животное по природе сюрреалистическое.
Я приехал ко мне — на Косу, на биостанцию — в седьмой раз, быть может, уже и не в седьмой — для круглого счета цифра семь… К этому не привыкнуть любой раз я удивляюсь тому, что опять тут вижу. Казалось бы, после этого я и еду любой раз, что окончательно не забываю, какое это единственное место на данной почва и как оно воскрешающе благотворно, как оно ничем не угрожает и ни к чему не обязывает: так оно существует без тебя, что и не исторгает тебя, другими словами такое место, в котором, по превосходному выражению (не моему), «душа смешивается с телом в произвольных отношениях».
Казалось бы, после этого я и еду — и любой раз — не помню для чего. Внезапно — оказываюсь. Место это напоминает отчизну, которой ни при каких обстоятельствах не видел…
По небу плыли пушечные облачка.
Кто стрелял? Дымок забыл о выстреле. Артиллерист — о пушке. Облачка были как комплект младенческих щечек, соскользнувших порезвиться с колен мадонн.
Деревья, но, пребывали в некоей растерянности по поводу ветра, довольно которого росли… Иные из них особенно покорялись ему и росли от моря под углом 45 градусов.
Данный угол обозначал тогда постоянство ветров наглядно, как в книжке.
(По большому счету учебник упомянут кстати. Потому что по окончании курса «неживой природы» начальной школы ни при каких обстоятельствах мне было уже не видно тех совершенных оврагов, холмов и степей, как на тех картинах… а испытывать неизменно ту муку взросления, в то время, когда все выясняется не в полной мере так, как рисовалось: не так чисто, не так совершенно верно, не так выражающе само слово, которым обозначено — не овраг, а род оврага, не лес, а род леса, не рыба, не мясо, не слово «овраг», не слово «роща»… Тут же все пребывало как раз в этом состоянии: море, дюны, облака, кустарник, песок, ветер. Два необычных условия были у данной безусловности, об этом чуть позднее…)
Но ветер, разбившись о дюны, дул уже во все стороны, и тогда деревья, имевшие в собственной природе память и навык линии мельчайшего сопротивления, терялись и не знали, куда расти, и начинали расти во все стороны. Они мешали тогда ветру более чем подчинялись, тем меняя собственную задачу. Они образовывали некоторый живой бурелом, росли, как надолбы, крест-накрест — игреки и иксы во всех направлениях — уравнение не не запрещалось.
Автобус остановился, и я вышел.
В первую очередь мне следовало повидаться с врачом Д.
Мне не запрещалось посидеть в углу.
Передо мною сидело шесть пар студентов, неумные затылки.
Он прошелся по аудитории, заложив руки за пояснице, мимо доски и мимо доски. По собственной манере ходить был он пара более высок и худ, чем в действительности. Он чуть выше задирал ноги, чуть поклевывая вперед головою при каждом шаге и взглядывая так, как будто бы глаз его был положен сбоку, как у птицы, оттого в его виде господствовал профиль.
Повертывался он так скоро, что опять появился в профиль. Как будто бы бегал на протяжении прутьев решетки. Наконец он приостановил собственный бег против доски и прочертил прямую линию. Звук мела как бы отставал…
— Заберём… — сообщил он. И с этим отстающим «чок», что я, минуя свободные бесклассные годы, тут же отыскал в памяти всей кожей-…заберём… замкнутое, — чок, чок, чок- нарисовал он квадрат, — …пространство.
И без того же боком посмотрел на нас, как будто бы победил.
Ни проблеска сознания не отметил он во взоре аудитории. Он втянул живость собственного взора в себя, как голову в плечи.
— Другими словами, — продолжил он суше, — ограниченный со всех сторон количество. Герметичный. Без доступа.
В нем ничего нет.
Квадрат на доске стал еще чуть безлюднее, чем был. Одиночеством веяло из этого квадрата.
— И поместим в него птицу.
По суровости, с какою он нарисовал квадрат, казалось, он был способен только к прямым линиям, и внезапно с лёгкостью и живостью, одним росчерком нарисовал в углу прямоугольника птичку, конечно, в профиль. Студентка на передней парте хихикнула.
Это было первое допущение. На допущении, как мы знаем, зиждется теория. И это было первое упущение — как, бедная, имела возможность в том направлении попасть?..
— Что прежде всего необходимо, дабы она имела возможность дальше существовать? — Он подождал пробуждая идея в аудитории, и сам ответил: — Воздушное пространство.
Сообщив так, он протер пальцем окошечко в верхней стороне квадрата. Все набрались воздуха — как будто бы в том направлении со свистом вошел воздушное пространство. Птичка была спасена.
— Что дальше?..
И он пририсовал чашечку с водой.
Так он снабжал птичку всем нужным, и последовательность данный устрашающе рос и усложнялся. Как неопытный еще Творец, предвосхищай он ее потребности, и они не кончались. Доска покрывалась уже пара более сложными формулами, чем О, и Н2О, с которых все началось, но все еще не хватает сложными, дабы смотреться наукой в современном представлении.
Но птичке было уже тесно в предоставленном ей количестве: она обросла семьёю и утварью, — и все же это было единственное место, где еще возможно было хоть на жердочке посидеть, по причине того, что целый количество, предоставленный лектором ей для жизни (таковой сперва безлюдный и мелкий на огромной и безлюдной доске), был сейчас окружен, стиснут, сжат со всех сторон формулами ее бытия; в том месте, во внешнем пространстве, развивалось отрицательное давление недостаточного знания судьбы… и где-то уже на большом растоянии сзади осталось весёлое библейское начало: воздушное пространство, вода, пища. Наука начинает с того, что вправду сложно и нереально постичь, — В первую очередь — оставляет его где-то на дне начальной школы в виде лемм и аксиом и заканчивает всего лишь тем, чему может обучиться любой профессор .
Но уже давно никто и не начинает В первую очередь. Дабы успеть выбиться в громадные узкие эксперты, нужно, не вспоминая, затевать с максимально далекого продолжения. Меня растрогала эта лекционная попытка осмыслить лектор как будто бы и сам удивлялся, и что-то для себя обнаружил в данной редкой возможности.
Эксперты склонны всех подозревать в заинтересованности своим предметом (прием «увлеченности», в далеком прошлом отработанный в романах о науке) — это милая и жалкая нагота комплекса.
И до тех пор пока его не слушают студенты, а студентки механически пишут, а я думаю о лестном для него сходстве с предметом изучения (в том очевидном смысле, как хозяева похожи на собственных псов), до тех пор пока мы отвлекаемся и не слушаем его, он незаметно переходит границу общедоступного, общеизвестного, очевидного, завесу которого он было немного открыл, и вступает в область особых знаний, в личную раковину эксперта, в экологическую нишу самой экологии — и мы не слушаем его уже не вследствие того что отвлеклись, а вследствие того что уже не понимаем, снова пропустив сокровенное головокружение перехода от зримоочевидного к умопостигаемому. Мы его не слушаем — эргономичный прием перехода к новой ниточке повествования…
Я имел возможность бы это слышать и осознать еще в начальной школе… Как это необычно, что человечество не осознавало что-то совместно со мною, с мелким школяром! Я эту школу окончил, окончил и вуз в два приема, я стал довольно-таки тридцатилетним человеком, перед тем как заговорили о том, что нас окружает, постоянно окружало, — о природе, о том, без чего мы не живем, — о воздухе, пище и воде. Эка невидаль!
Выяснилось — невидаль.
Невидалью был сам данный разговор. Сейчас столь актуальный, что уже и как бы затверженный, как будто бы и опасность остаться без чего дышать как бы и не опасность: напугали, а и на следующий день и послезавтра все еще дышим, — катастрофа выродилась в свободную болтовню, метод, каким все остается на том же месте. И выходит внезапно ужасная идея, что запрет темы более перспективен, что ли, чем ее истрепывание по окончании снятия запрета.
Сперва время было голодное — не до того, и внезапно — наелись, и живы, и еда нам ненасущна.
Проходит время, и бессвязные вещи начинают выстраиваться в ряд… По окончании войны в речках и озёрах развелась рыба, леса находились неистоптанные, грибные, ягодные — мы ехали с отцом на велосипедах, и ничего встречного, никого. Безлюдные птичий щебет и песчаные дороги. С какого именно же года на дачу стали выезжать все, все ходить за ягодами и грибами, все ловить рыбу?
Само собой разумеется, неспешно, но и внезапно… Я не забываю это по электричкам, как они внезапно набились — переполнились — внезапно, в какой-то год; нужно было десять лет с войны пережить, дабы прекратить съедать непременную вторую тарелку супа и вычислять такси — развратом; внезапно в какой-то год за город отправились все — 55-й? 56-й? Так как неизменно же возможно было ездить за город, никто не запрещал — внезапно стало возможно.
Приладить себе через плечо превосходный ящичек для подледного лова.
Это у нас, это я замечал, а в том месте, на Западе, про что мы читаем, все какие-то выверты, странности, с жиру бесятся: кто-то не ел полгода, кто-то сьел автомобиль, кто-то переплыл океан без воды и без еды на надувной лодке, кто-то полез в пещеры, кто-то в кратер, кто-то прошел на руках через всю Германию, кто-то, наконец, залез на Эверест, кто-то поплыл под парусами без руля и без ветрил.
Но это и раньше… да, самую малость раньше, если бы не война… Полюсы, аэростаты, дирижабли, все выше и выше… Это еще и раньше, данный особенный коктейль из авантюры, науки и спорта, но особенно почему-то — по окончании войны. В то время, когда стало что-то ясно, в то время, когда все что-то осознали, что-то осознали, лишь не осознали что. И это «что» стало ускальзывать безвозвратно.
Не редкость такое время, в то время, когда человечество живет как один человек, — в каком-то смысле это и имеется Время. Тогда оно совместно старится, совместно радуется, совместно осознаёт. Позже оно не осознаёт, куда это делось, куда ушло.
Кто-то осознаёт, что состояние неспециализированного уже потеряно, уже не вернешь, кто-то ощущает это раньше вторых — спохватывается первым, прокатывается волна суицидов, кто-то отчаливает на пустующей лодке догонять романтически окрашенные совершенства.
Но и от этого перемещения остаются в общем потреблении необычные вещи: ласты, маски, большие бусы, мода на джинсы и свитера, новые виды спорта, наподобие стрельбы из лука и водных лыж. Кто-то начал приручать львов, жить в волчьей, в обезьяньей свора, какие-то люди стали хронометрировать трудовые процессы каменного века, изготовив себе орудия по их примеру и удалившись от цивилизации (во всех этих упражнениях смущает маленькая рация в пластиковом мешочке и возможность помощи с неба вертолета — вот эта-то пуповинка компрометирует любое бегство).
Необычные люди. Поведение их в рекламе. Но в этом была и зависть: вырвался!.. Мы тут тяни и вкалывай, а он пешком около света отправился — так и любой с наслаждением. И вот то и необычно, что этих сумасбродов единицы. Чтобы получить право, нужно поразить.
А поразить данный стреноженный, зажатый мир тяжело.
В авантюрах, ставших известными, поражает только одно — простота, как до этого никто раньше не додумался, приводит к зависти, что это было и тебе доступно. И как-то через чур разумеется, что следом уже не пойти, что эта дырка, данный проход уже замазан и охраняется. Поразить данный мир тяжело.
Как писал поэт, «не легко поразить его словом, поразить выраженьем лица…».
Но возможно удивиться, какими же несложными вещами не редкость он любой раз поражен, данный мир, какими, казалось бы, очевидными и всем дешёвыми. И вот мы живем в мире, что не редкость поражен естественным поведением больше, чем формулой мс2. Я утверждаю, что именно этот сдвиг имеется история науки экологии, а не долгий перечень натуралистов всех столетий.
Заберём птицу, запаяем ее в коробку, дабы убедиться, что без воздуха она жить не будет… Само собой разумеется, это смешно. Экология мало знает неочевидных вещей, она ничего не открывает нового — она только отворяет заросшие глаза цивилизованного человека.
Все сделанное ею — простенькое платьице, все ее попытки прикинуться наукой на современном уровне, ее, так сообщить, научный аппарат наивен и беден, но мне-то думается, что и он существует практически только чтобы зазнавшиеся сотрудники из физики не весьма насмехались либо дабы произвести перед людьми привычный вид науки, другими словами жречески непонятный обывателю, дабы уважали. Она, возможно сообщить, и совсем не наука в современном-то смысле. Но я скорее сочту все другое не наукой.
Потому что экология свежестью и честностью собственных первых перемещений именно то совершает, что забыли все известные науки, увлекшись собою, — она открывает новое мышление, новое отношение к миру, новый метод обрисовать его. Причем этот метод имеется первый и естественный для человека. Более того, она уже прививает это новое мышление людям, она сделала огромные удачи в человечестве за весьма маленький срок.
Мода модой, но в то время, когда об этом еще говорили так звучно?
Она восстанавливает в сознании место человека на земле, которое он забыл. Она воспитывает это сознание, более того, она сама и имеется новое сознание. Разреши бог успеть пожать плоды этого посева.
У человека, как мы знаем, двойная природа: социальная и биологическая. Двойная либо двойственная?.. Неоднозначная.
Под лязг прогресса человек уверовал в собственную социальную природу значительно глубже, чем в биологическую. Словно бы мы не мерзнем, не болеем… Экономические законы правят нами как бы с большей непосредственностью, чем экологические. Это заблуждение трагично, потому что экологические законы тем временем не прекращают функционировать, даже в том случае, если мы придаем им второстепенное значение.
Мы живем в мире людей, появившихся один раз. Прошлому мы не свидетели, будущему — не участники. Инстинкт, программа и память вида в нас ослаблены как раз как эта сообщение времен.
Именно на этом ослаблении (предельном, до утраты связи с естеством) и произрастает человеческое семя.
Человек появляется именно в том месте, где вымирает каждый вид. Ни горячей шерсти, ни грозных зубов, ни волчьей морали- штаны, пуля, религия…
Что за новость: человек — биологическое существо? Что за новость человек живет на земле? Всегда было известно — ни при каких обстоятельствах не знали.
Это не новость — это революция сознания, да не подавит ее научная!
Как необычно! — думал я, с большим трудом постигая опыт, с легкостью усваивая вывод. Траектория научной мысли напоминала мне хаотический полет моли. В конце ее неуклюже торчал сам собою напрашивавшийся сначала вывод.
Как смешно! — думал я, словно бы человек, с удивлением разглядывая личные ладони, обнаруживает у птицы крылья, а раскрыв от этого удивления рот находит у птицы клюв.
У птиц ли он «открывал» клюв и крылья либо у себя руки и рот?..
Человек! — думал я, ты способен постигнуть второе биологическое существование — любой раз, в кромешном этом упрочнении, постигаешь только собственный… Но постиг бы он и собственный, не силясь постичь второе? Свойство человека знать иную природу думается мне катастрофически малой, но нет ничего добропорядочнее и нужнее для людской сознания, чем это буксующее упрочнение.
Само собой разумеется, не все так легко. И у них имеется очень многое от важной науки. Лаборатории, колбочки, пробирки, самописцы, холодильники — целый тот лапутянский антураж, на фоне которого позирует ученый в белом халате, жонглируя предметами культа.
Но мы не знаем, что он в том месте с чем сливает на фотографии — и не смеется ли над нами. Жрец науки освещен люминесцентно, с глубоким видом всматриваясь в то, о чем он якобы имеет, а мы ничего не знаем. На то мы и просвещенное общество, что чтим непонятное.
Я не иронизирую — это в самом деле показатель просвещенности. Но вот природу мы не чтим, а науку чтим.
Наконец появляется антинаука, которая чтит природу.
И вправду, для чего он сделал таковой осознающий вид на данной фотографии на общей обложке? Вид настоящего ученого должен быть (по моим наивным представлениям) испуганным, потрясенным, растерянным. Потому что он знает в собственной области все, что было известно до сих пор, до этого дня, до этот секунды — а дальше ничего не знает.
И только бог ведает, по причине того, что он — на том самом переднем крае науки, где обрыв знания.
Именно самый первый эксперт, если он вправду что-то ищет дальше, ничего не знает. Всем остальным еще обучаться и обучаться до него, перед тем как они будут знать столько, сколько он, — они знают кое-что, а он — все. Он один имеет представление о том, как мы ничего не знаем.
Что же он застыл на фотографии с таким видом, словно бы имеет представление, что в том месте, дальше, в следующий момент?
Самодовольный, ярко освещенный среди сверкающих посуд и подмигивающих сумасшедших стрелок — так как он впотьмах, у него должно быть вдохновенное лицо слепца, брейгелевского слепца, сыплющегося в яму… Каждую секунду он опускает руки в тёмный коробку- в какой бархатной безотносительной темноте они пребывают! Неизвестно кроме того, руки ли он оттуда вынет, из собственного вытяжного шкафа. А он их погружает в том направлении и вынимает оттуда, где он не знает что.
Острее бритвы тот край между его мозгом и тем, чем заняты его руки, каковые так уж смело копошатся в том месте, в потемках люциферичного света.
Из какой уверенности он так уверен?
…Имеется отличие между образованием и знанием, между призванием и талантом в призвания и пользу образования. В последних больше благородства. Без этого благородства общеодаренный человек, так называемый «талантливый», хлынет в первую очередь по линии громаднейшего успеха в область, выдвинутую временем, покажет предприимчивость и окажется на гребне, рано развратившись тренировкой социального чутья.
Исходя из этого появляется некая диспропорция, социальная беда — отмена призвания: беда с преподавателями, докторами, где именно внезапно остро начинает не хватать людей грамотных и призванных, запуганных оскорбительным клеймом неудачничества. Вторая сторона той же беды не от бедности, а от жиру: области, куда хлынул «талантливый» человек, также становятся (по проценту) бедны людьми благородными и призванными — беда искусств, передовых наук и многого другого.
Тут, на Косе, жили люди, в различной степени одаренные, энергичные либо ленивые, но все они были образованные и призванные заниматься как раз этим своим делом. В том самом, желанном, вышеупомянутом смысле.
У данной повести имеется и собственная героиня, и намек на амурную линию — Клара. Нет, это не была рядовая командировочная интрижка — это была нежность, род чистой влюбленности — и ровный ее свет скрашивал мне корреспондентское одиночество. Клара была молода, умна и прекрасна.
Она обожала блестящие вещи, табак и умела вычислять до пяти.
Она обожала другого. Валерьян Иннокентьевич был красивый юный человек. Она ласкалась к нему как кошка (сравнение весьма некстати: кошек на биостанции не подпускали на выстрел — орнитологическая специфика…).
Я пологаю, что неразвращенному читателю уже ясно, что Клара… (Ах, Клара! Скобки в прозе — письменный род шепота.)
Помнится, классе в шестом, в грамматике имени академика Щербы, было такое упражнение на что-то про Девочку и ее любимого попугая, как она просыпается утром и как он ее приветствует. Это было упражнение на что-то, скажем на местоимения, «он» и «она», но для нас уже все упражнения были об одном — квадратный трехчлен. Мы, помнится, все закрывали слово «попугай» и очень радовались получающемуся тексту.
Через много лет мне представляется случай написать сочинение на эту тему. Это был, непременно, род ревности, в то время, когда я робел прикоснуться к ней, а она дергала Валерьяна Иннокентьевича за рукав, дабы он опять и опять гладил ее. Нет, тайна женского размещения и имеется тайна: серьезность отечественных намерений — самый не сильный козырь.
Валерьян Иннокентьевич был пластичен и снисходителен.
Он был моложе нас по поколению и рассматривал нас острым и умным взглядом, пользуясь своим преимуществом во времени происхождения, как будто бы мы ему не предшествовали, а последовали.
Но — достаточно и о сопернике. Я носил Кларе лакомые кусочки, давал ей расклевывать сигареты — втирался к ней в доверие, ежедневно подвигаясь на шажок ближе, курлыкал. «Нежное слово и кошке приятно…» (Снова кошка… Да что это слово так и крадется за моей Кларой!) Мое постоянство было оценено — она уже отмечала мой приход взором. Нет, ее сердце так же, как и прежде принадлежало второму, но ей, как даме, льстила моя преданность, она снисходила.
Быть может, она бы уже рассердилась и заволновалась, если бы меня в один раз не появилось в обеденное время: данный коварный прием для перелома взаимоотношений был у меня в запасе.
Но достаточно и о себе. Любовь имеется познание. Три вещи я познал посредством Клары.
Если бы не они, то не необходимо и говорить тут о отечественных с ней отношениях.
Клара была ручная, другими словами не опасалась человека так, что подпускала на расстояние вытянутой руки. Но она была не только ручная, но и ворона, другими словами существо дикое и осмотрительное, второе, не человек. Исходя из этого она была щепетильна в отношениях, и на расстоянии вынутой руки пролегала качественная граница (успеть отпрыгнуть, взлететь…), которую нарушить имел возможность только посвященный. в один раз…
…она сидела на ступени стремянки, прислоненной к стенке отечественной кухни. Это была ступень, удобная для общения: Кларин взор был на уровне человеческого. Она распотрошила мою сигарету, я протянул руку… Она покосилась, содрогнулась, посмотрела на меня оценивающе и решила не взлетать, не дергаться — только легко переступила по перекладине.
Моя рука опустилась на деревяшку.
Я испытывал истошно детское чувство — так мне хотелось ее потрогать. Я внезапно осознал, что ни разу в жизни не прикасался к птице.
В одну секунду во мне пролетела масса людей богоугодных мыслей: о том, как человеку нужен зверь, что в юные годы у меня не было собственного зверя (детство внезапно предстало более жалким и нищим, чем было), я отыскал в памяти единственного мышонка, что жил у меня семь дней, а позже сбежал, в то время, когда я его практически научил ходить по спице (по данной же спице он и сбежал из собственной стеклянной колонии), я отыскал в памяти собственные пыльные колени, в то время, когда, вылезши из-под шкафа, я осознал, что он сбежал окончательно… я сделал вывод, что в этом случае уже в обязательном порядке привезу дочке щенка… И, вознеся все эти молитвы, приговаривая елейно: «Клара- красивая женщина, Клараумница…»- прикоснулся к ее когтю. И она не тронулась с места.
— Клара- умница, Клара- красивая женщина… — бормотал я, все храбрее поглаживая ее когти, и она мало обращала на меня внимания, но разрешала. Я с опаской поднял руку, дабы погладить ее более ощутимо — она отпрянула, пере ступив, — мне предоставлялось только ручку целовать…
— А вы ее не по голове, а по клюву погладьте. — Врач Д. стоял за моей спиной — как продолжительно замечал он меня?
— По клюву, вы рассказываете? — засмущался я, застигнутый. — Она же тяпнет!
— Именно нет. По клюву — не тяпнет. Она же — хищник. Хищника нужно ласкать по оружию — тогда он не опасается.
Вот вы верно так как начали — когти также оружие.
Идея, если она идея, попадает в голову мгновенно, как будто бы неизменно в том месте была, как будто бы для нее место пустовало. Ее не нужно осознавать. Сомнений она не вызывает.
— Кларра — хорошая, Кларра- славная… — гладил я ее по клюву. Это была ласка намного более значительная, чем по когтю, — ей нравилось. Она жмурилась, терлась.
Вид вороны не располагает к симпатии.
У вороны от природы сердитый вид. Творец не предусмотрел для нее способов проявлять радость, нежность, любовь. Ни улыбнуться, ни заурчать, ни повилять хвостом она неимеетвозможности.
Тем милее было это беззащитное упрочнение приветливости жёсткой девы… Сыр у нее уже практически выпал… И эта восхищенная идея о Крылове, что он точен, как Лоренц, пролетела во мне, взмахнув Клариным крылом: Крылов — птичья фамилия… — и улетела. В самом деле, больше всего, казалось, Кларе нравилось: «Клара — красивая женщина».
Не смотря на то, что из-за чего она не красивая женщина, я уже не осознавал, смешно мне не было, в полной мере честно сказал я: Клара — красивая женщина. Не может быть, дабы лесть не была сладка и самому льстецу — она бы ничего не стоила… Тут-то врач и добавил:
— Вы не забывайте, я вам про мораль животных рассказы вал?.. Так вот, в первичную, животную, мораль человека, по-видимому, входил запрет причинять ущерб тем, кто ему доверяет… Собака, позже кошки, голуби, аисты, лас точки… все они в различной степени сблизились с человеком через эту особенность людской морали, без особого приручения. Увидьте, что к вправду прирученным животным — курам, свиньям, козам — человек не испытывает инстинктивной любви.
— Другими словами лишь доверие приводит к любови? — восхитился я.
— Я так сообщил? — усомнился врач.
Клара, само собой разумеется, умница, но и врач не глуп. Сказать мне такие вещи это гладить меня по клюву. Как приятно, но, принять в себя назад человеческое убеждение в форме научного закона!
Это значит, что себе мы не верим.
Нужна наука, дабы убедить нас в том, что нам характерно. Как минимум необычна эта разлука человеческого и общезакономерного. Из данной трещины произрастает экология, заполняя ее.
— Прекрасно, — говорю я, — мы любим тех, кто нам доверяет. Но нас в этом доверии поражает в первую очередь то, что оно показано существом совсем второй природы, — это нас трогает. Мы ни на 60 секунд не забываем, что мы люди, а они — животные, сверху вниз.
А они? За кого они нас вычисляют, доверяя нам?
— Это непростой вопрос. Я придерживаюсь той точки зрения, что, живя с нами, они нас вычисляют вторыми существами, но исключают из отечественного вида собственного хозяина.
— А его-то они за кого вычисляют?
— Предположительно, за вожака собственного вида.
— Так что же, — возразил я, — они не видят, что ли? Клара, что же, меня на данный момент за ворону вычисляет?.. — Я взмахнул руками, как крыльями, и Клара со злобой шарахнулась. Я тут же спохватился и попытался опять погладить по клюву — она отвернулась.
Как будто бы обиделась.
— Вас, само собой разумеется, нет. А вот Валерьяна Иннокентьевича она, в полной мере быть может, и вычисляет вороной.
— Мужчиной-вороной?
— Это непременно, — сообщил врач, — как раз самцом.
— Ну уж простите… — улыбнулся я. — Неимеетвозможности же природа быть так слепа! Какой же он супруг… другими словами, простите, ворона?
— А вот представьте себе… — сказал врач… Мы удалялась, пререкаясь, в дюны.
(Клара погибла, но не от кошки. Ее заклевали вороны. Но не вороны, а вороны. За отличие в ударении.)
Идея, если она идея, попадает в голову мгновенно, как будто бы неизменно в том месте была… Это также идея. «Все идея да идея! Живописец бедный слова…»
Мысли в экологии удовлетворяют в первую очередь по этому показателю: они очевидны. Это, к сожалению, не означает, что они вам сами в голову пришли. Не смотря на то, что вам в полной мере может так показаться. Не знаю уж из-за чего, мне такое уровень качества мысли думается самые привлекательным ее преимуществом.
Мыслить конечно, не обязательно любой раз кричать «эврика»!
пышность и Пафос мысли-выскочки, хотящей попасть в одиночестве возвыситься над поверхностью действительности, свидетельствует в первую очередь о том, как редко она входит в голову ее торжествующему обладателю (тут необходимая застолбленность, поименованность каждого мысли). Парадоксальность, эффектность, изощренность начинают выступать чуть ли не как независимые показатели желание мысли быть определённой и признанной оттесняет назначение, блеск вторичных показателей ослепляет суть.
Это неспециализированная тенденция: скажем, и стихи стали писать столь технично, что поэзия жаждет вдохновенного любителя, а возможность сказать что-нибудь новенькое исключает квалификацию, она сродни невежеству. В общем, сообщить новое возможно только опять и опять начиная сперва, обучиться этому запрещено, нужно разучиться. Это кто же в том месте маячит на горизонте, все не приближаясь?..
Таковой восторженный, развевающийся, с сверканием глаз и бьющимся сердцем, что все забыл из того, что все мы наизусть с пеленок знаем?.. Любитель. Любитель машет нам белым флагом неведения: идите ко мне, тут!
На флаге, случайной тряпице, узелками привязанной к ветке, начертано: обожаю живое. В отечественном мире, таком не стоящем на месте, буксующем в собственном постоянном развитии — прогрессирующем, в случае если что-то и в силах обернуть собственный, усложненное до потери, значение, так это любительство: от Ламарка до Лоренца расстояние ничем не покрыто, между ними два века вытоптано головокружительным развитием науки. Полным гением был только монах, сеявший горох на двух грядках… любитель-огородник Мендель.
Удивительные статьи:
- Часть iii. органы церковного управления
- Нет гуру, нет метода, нет учителя 3 страница
- Сказка, рассказанная тень-королем 4 страница
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Или новые сведения о человеке 8 страница
Как раз за это, за прямоту, показанную в спасении собственной шкуры, а не совершенств справедливости, мы прощаем Карамышева и производим на сцену…
-
Или новые сведения о человеке 5 страница
Я и проснулся не помня. Вышел в раннее утро. Солнце сияло. Блистали капельки на ветках. Курилась трава. Еще яростнее, чем в большинстве случаев, щебетало…
-
Или новые сведения о человеке 7 страница
Я-то сейчас и собственную не видел. Я задал вопрос хозяина, случается ли ему сказать с Москвой. Он кивнул. Я задал вопрос, как же он с нею связывается….
-
Или новые сведения о человеке 2 страница
Имеется радостная закономерность в том, что истина удаляется по мере приближения к ней, и если вы так уж рветесь, вам нужно будет довольствоваться всякой…





