Я бы не стал, пожалуй, и упоминать об этом косом взоре на их ученые занятия, если бы не поймал себя фактически на таком же. Другими словами, само собой разумеется, в моей усмешке, в моей иронической мысли, казалось мне, не находилось ничего от неотёсанного, непросвещенного ума. Напротив, я полагал, что именно мое совершенное представление о науке, некоторый пиетет лежит в основании моей доброжелательной критики. Но…
Но от меня требовался маленькой мозговой подвиг, дабы преодолеть и эту ступень, запнувшись об нее, и понять, что, по сути, моя ухмылка не многим лучше той, местной.
Я и по сей день, очень многое среди них повидав и осмыслив, нахожусь в затруднении, пробуя обрисовать, чем же эти люди были заняты, в чем состоял их труд. кольцевание и Отлов птиц, так же как и обработка этих материалов (мною уже не наблюдавшаяся и оттого как бы и не существующая), не были, как утверждают сотрудники, какое количество-нибудь значительной частью их работы. Это была необходимая, ежедневная, но периферийная ее часть.
Но именно она, в глазах многочисленных журналистов и населения, выступала как главная. Ловушки были издали видны, колечки — забавны.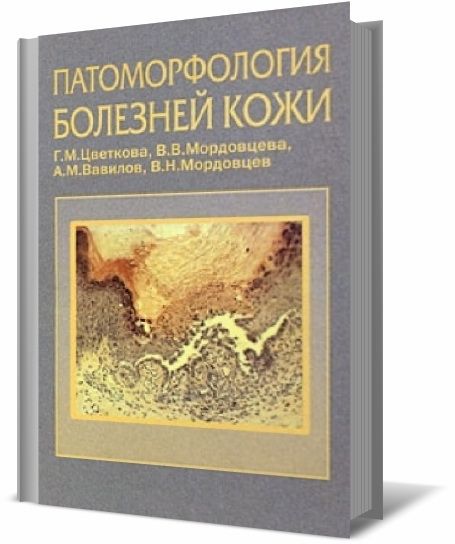 Эта часть их деятельности была очевидна и как бы понятна, как понятны нам цирк, зоопарк либо охота (спорт), необязательность которых допущена и оправдана неспециализированным сознанием.
Эта часть их деятельности была очевидна и как бы понятна, как понятны нам цирк, зоопарк либо охота (спорт), необязательность которых допущена и оправдана неспециализированным сознанием.
Другая часть была особая, что и следовало мне более глубоко осознать.
Однако здесь и возвышался тот риф образования, которым владели они и не владел я. Имеется последовательность злополучных областей людской сознания, в которых все себе кажутся в той либо другой степени экспертами (мне ли было этого не знать, занимаясь литературой!..). Их заповедная деятельность не была отгорожена от непосвященного тем же радостным (во многом искусственно возведенным…) барьером, каким оградили себя в недавнем прошлом, скажем, математика и физика. Кажущаяся доступность их занятий имеется мишень для невежды: он в нее попадает.
В самом деле. Следующим объектом, по окончании ловушек, останавливавшим экскурсионное внимание, была некая просвечивавшая полностью будочка называющиеся «марковник» (в честь Марка, выстроившего ее…). На крыше ее были таинственно расположены круглые коробки; в домике щелкали устройства, смотревшиеся очень усложнение; множество многоцветных, окончательно перепутанных проводов внушало почтение. В этот самый момент я про себя отмечаю, что эталоном сложности на всю мою жизнь была и осталась швейная машина, которую мне запрещали крутить…
В науке, как сейчас осознаю я, не самоделен ни прибор, ни мысль, для доказательства которой он создан. Самодельно подтверждение. Нам думается необычным, что прибор может строиться год, чтобы произвести один замер, а позже он не нужен.
Это же была вещь! Зримый труд… а он тут же разобран, закинут, забыт. Либо нам покажется необычным, что мысль, которую нам популярно изложили за пять мин. и мы ее как бы осознали, испытывает недостаток еще и в многотрудном и дорогом доказательстве: она же — очевидна!
Скажем, эти загадочные круглые коробки на крыше были всего лишь открытыми небу клетками, в которых по радиальным жердочкам прыгало всего по одной птичке. Жердочки эти совокупностью проводов соединялись с электрическими счетчиками, каковые и щелкали любой раз, как птичка прыгала на очередную жердочку. Хотелось Марку знать, на какие конкретно из жердочек птичка прыгает охотнее и чаще и в какое время года: на северные? на южные?..
Он изучал ориентацию перелетных птиц.
И только-то?! А какое превосходное сооружение! Прямо-таки ядерное… Всего лишь?
Достаточно. Цена строки окончательного утверждения тяжело учесть. Возможно, вся жизнь.
Так вот на чем я, всем сердцем пребывающий на их стороне, милостиво допущенный в их среду, так вот на чем я себя ловлю…
В прошедший собственный приезд я был поселен на чердаке, над так называемой «людской», где велась камеральная обработка. Это был шикарный чердак фактически говоря, второй этаж самого громадного на наблюдательном пункте дома. На чердаке были свалены ветхие сети и кое-какой станционный хлам.
Я бродил по чердаку, набредая на необычные вещи, скажем связку стеклянных глаз разных размеров, от совиных до воробьиных, для чучел… Мне было тут прекрасно. Я вышагивал мимо сетей по долгому чердаку в напряженном творческом молчании. Наскучив вдумчивым хождением, имел возможность я выйти на необычный мостик, площадку наружной лестницы, и взглянуть сверху на раскрывавшийся мне вид с капитанским прищуром: я видел дюны, и лес, и небо, и ловушку с рассевшимися на растяжках отдыхающими птицами.
Я имел возможность взглянуть вот так как бы в глубокой задумчивости и со вздохом возвратиться к своим не подвигавшимся ни на строчок исходникам. Оказалось, что я довольно много наработал на этом чердаке: полромана. Это я с удивлением нашёл возвратившись, и мое чердачное существование окрасилось успехом и особым счастьем.
Я рассчитывал на данный чердак и сейчас, исчерпав все другие методы. Исходя из этого, в то время, когда чердак был занят, я почувствовал это жестко, как удар по последним творческим возможностям. В чердаке таилась единственная обстоятельство моего молчания.
Чердак сейчас был заселен куда более бессчётно, чем мною. Он был уставлен серией клеток с юными птицами, выращенными так, дабы звездное небо было именно тем, чего они ни разу в собственной жизни не видели. Сотрудница Н. изучала, какую часть в общем комплексе ориентации играется звездное небо… Каждое утро я желчно замечал, как она стаскивала с чердака клетки, с тем дабы в течение дня юные птички пребывали в более естественных, чем ее опыт, условиях, на солнце и воздухе.
И любой вечер, как начинало темнеть, я замечал, как она втаскивала их назад под чердачное небо вместо звездного. Лестница была узка, крута, с шаткими перилами… клетки были громоздки и неудобны, заслоняли ей дорогу… мой взор, провожавший бедную Н., не был доброжелателен…
— Не вычисляешь ли ты, — сообщил я, в очередной раз застигнув ее за этим неуклюжим занятием, — что ты в далеком прошлом уже изучаешь влияние ежедневной переноски птиц на второй этаж, а не звездного неба?..
Не взяв ответа, я побрел в собственную будку.
Будка эта была любезно предоставлена мне сотрудником, ушедшим в отпуск. Она была выстроена «для себя», с громадным уважением к собственному вкусу. Личность строителя была запечатлена тут на всем, к чему бы я ни прикоснулся, — клеймо умельца. Это мастерство в прикладных занятиях было особенно характерно для жителей станции. Самое наличие мастерства в наши дни постоянно являлось для меня большим свидетельством.
Я сознавал, что оно — недаром.
Значит, и их главная работа, невидимая обывателю, так и не осознанная мною, содержала в себе это свойство, раз уж оно столь наглядно проявлялось по периферии… Строительные материалы были найдены на морском берегу; стенки были оклеены географическими, историческими (Крестовый поход детей, Турция…) и морскими картами, на которых я нет-нет и с удивлением обнаруживал эту вот будочку, в которой жил; все откидывалось, складывалось — столик, стулик, кровать… — не занимая никакого места, очень эргономичное в обращении… Я игрался в индивидуальные вещи хозяина, не находя применения своим. Идея моя паразитировала в столь комфортном пространстве.
И я выходил прочь из будки — болтаться без дела по территории, разминаться на узких тропках с сотрудниками, болтающимися по делу. Я увидел сотрудницу Н. с плоским ящичком улова в руках и прошел за ней в «людскую» взглянуть, что она для того чтобы поймала…
Время было непролетное, улов был случайным — она поймала всего трех птичек. записи и Занятие обмера было тысячекратным — мне постоянно нравились эти заученные перемещения, которым было некуда развиваться как в артистизм. Птица в руке — это более чем редкое в обыденной жизни явление.
Тут, казалось, ладонь была для того и придумана: как комфортно, как совершенно верно соответствует отечественная безлюдная горсть тельцу птички, повторяя его! Как скоро и четко это все: алюминиевая полоса обжата около ножки — запись в издание, обмер крыла… вот Н. дунула птичке в затылок, раздвинула перышки, определяя возраст, и бросила ее головой вниз в узкий прозрачный кулек — чашку особых весов: птичка весила собственные восемнадцать граммов. Потом шикарным жестом — взмах кульком в открытое окно… птичка, легко выскользнув, три раза быстро провиснув в нежданной свободе, улетела окончательно от нас…
Я сунул собственный негибкий и корявый в сравнении с птичкой палец через сетку — оставшаяся последней птичка посмотрела на меня сердитой бусинкой и небольно, но отважно клюнула это чудовище моего пальца.
Я желал задать вопрос сотрудницу, не воздействует ли шок кольцевания на предстоящую судьбу птицы (шутка ли, с вами бы так!..), — и в этом случае удержался, не задал вопрос.
— Какая славная птичка, — сообщил я лирически, добывая из сетки палец.
— Птичка… — неуважительно сообщила Н. — Что год ты к нам ездишь, хоть бы одну птицу запомнил, как именуется… Хоть бы эту!.. Так как станция названа ее именем!
— А как именуется станция? — задал вопрос я.
— Выйди и прочти.
Я вышел. На доме было выведено Fringilla.
Fringilla — это всего лишь зяблик. Слово «зяблик» я знаю в далеком прошлом, птицу зяблик я не определю ни при каких обстоятельствах. Я принадлежу собственному поколению любой раз значительно больше, чем предполагал.
Не знаю уж, какими изгибами истории, либо прогресса, либо века оправдать эти бельма сознания?.. Птица, дерево, куст, трава… до личного знакомства так и не дошло. Каким обделенным ощущаю я себя любой раз в лесу!
Вот птица вспорхнула с ветки… с какой ветки? какая птица? «У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?» Как я ценю этого поэта, отыскавшего мне оправдание. Вправду, незнание не мешает мне немо и молитвенно упиваться природой, в случае если я ее невзначай увижу… Но — какая же бедность и нищета!!!
Птица? — Сорока-ворона, воробей… Возможно, синица…
Цветы? — Роза, ромашка, подснежник…
Бабочка? — Капустница… (Прощай, Владимир Владимирович!..)
Тут входит моя двенадцатилетняя дочь, и я в строчок этого текста продолжаю опрос:
— Сообщи, лишь не вспоминая, подряд, какие конкретно ты знаешь деревья?
Дочь, пара с большим удивлением, но послушно:
— Ель, сосна, береза… — Пауза. — Клен, дуб… Возможно, каштан?.. Дочь честна, она не именует потом чего не знает: бук, граб, ясень. Это слова, а не деревья. И потом:
— Травы?.. Лопух, подорожник, одуванчик… Другое — легко трава.
— Майский жук, навозный…
— Кусты… Тёмная рябина, сирень…
Как скоро захлопывается последовательность! Она не знает больше меня. Она знает столько же, сколько я. Ее поколение не исправит неточности моего, а усвоит их…
— Божью коровку забыла — также жук… Птиц больше знаю!.. — была рада она и потом, как молитву, отбарабанила слово в слово мое невежество: Воробей, ворона, синичку какую-нибудь знаю, попугая мелкого, снегиря не видела, снегиря знаю…
Молчит.
— Дятла знаю… Гуся. Утку не знаю. Ну, курицу. Курица — не птица.
— Аиста не знаешь?
— На картине не считается.
— Чайку? — Молчит. — Рыбу?
— Рыбу совсем не знаю, — была рада она. — Никакой. Лебедь — птица?.. Знаешь, кого знаю! — обрадовала она меня. — Фламинго!
Само собой разумеется, век. Вал информации, поток коммуникации… Может, мы для того держим голову столь пустой, дабы забить ее в один раз полезными, фактически нужными сведениями? В противном случае они смогут уже не поместиться?.. Я в это не верю.
Я через чур много не забываю марок телевизоров и автомобилей, больше, чем деревьев и трав. Невежество и имеется невежество.
В век космоса в космосе побывали единицы, пускай они и не знают имен живого. Но не я же! Это я не знаю, а не все…
Вот что так окончательно и останется для меня неразьято-необычным: не знать всего этого для нас конечно. Мне не понравится человек, зазубривший из снобизма вопреки всем имена мышей и травинок. Он будет неестествен, как сумасшедший, ненатурален именно со своим натурализмом, неестествен.
Не знать в век науки характерно, как дышать. Это меня и изумляет. Неизменно кто-то и что-то знает не то, что все.
Неужто все не знают одного и того же?..
Существование только в двух измерениях: лишь на протяжении и, малодоступное нам, лишь вверх, — подчеркивает соотношение низа и верха, приближает нас к идеалу однородной среды. В каждом скептике, за маской неверия, задыхается романтик. «Белеет парус одинокий…» Романтизм связан с идеей существования в однородной среде, недоступного нам по природе. Поэты с завистью провожают взглядом авиаторов и моряков, осуществивших мечту.
В том месте наконец осуществляется мысль, в чистом, неразочаровывающем виде — «как словно бы в бурях имеется покой». Но — не до конца, не до конца… Они попадают, но не принадлежат. Только в аппарате и лишь скопом и не окончательно: разврат возврата — душа разочаруется подделкой. «Ничего больше!
Лишь — весло и лодку! весло и Лодку…»[14]
Только сфера духа есть для человека дешёвой однородной средой. Верховная идея дешева каждому, ее возможно поразмыслить различным людям в разных точках Почвы и времени, другими словами к ней ведут каждые пути, но она сама, достигнутая, будет одна и однообразна. Только на самом верху мы будем иметь совсем неспециализированную природу, отменяющую одиночество, ту неспециализированную природу, с которой мы рождены… В случае если кто-то дошел до Истины и еще кто-нибудь дойдет до нее, то это будет та же Истина, дороги пересекутся.
Совсем равны мы только в самом низу (прах) и на самом верху; другое — пути. Притомившись, странники наблюдают в море и в небо — горизонт отступает, и небо все так же высоко.
Так толковал я для себя непонятную идею высшего — так я грезил на данной самая отрешённой из земных поверхностей, с истончившимися, практически невидимыми нитями всех четырех измерений. Два из них перетерлись.
Казалось, перетрись последние — и отлетит это земное облако.
Но и эта узость Косы, фактически ликвидировавшая одно измерение, и эта безвременность песка, воды, безлюдья и неба в сумме не могли бы дать того результата однородности среды, в которой я тут практически пребывал. И все другие объяснения, какие конкретно я для себя обнаружил, были частичны — не растолковывали… Скажем, это западнейшее место страны… но еще западнее я уже бывал: в том месте почва становилась Польшей и была Польшей, но больше ничем она не была, другими словами и на запад не длилось это невиданное состояние почвы (но, на данный счет я ни при каких обстоятельствах через чур не обольщался…).
Либо вторая, более основательная, обстоятельство — национальная, — на эту территорию был наложен двойной запрет: заповедный и пограничный — этим непоэтично, но реально разъяснялось безлюдье, нерастоптанность, животные… Но снова же — не бесплотность. Пребывала и более неожиданная для данной почвы, таковой органичной и гармоничной, обстоятельство: не таковой ее создал Всевышний, таковой, оказывается, создал ее человек. Пресловутая ноосфера смотрелась тут при таких условиях самый оправданно и благородно.
Человек по собственной инициативе посадил на Косе леса и разрешил войти зверя. С того времени как появилась та Коса, которой я сейчас восхищаюсь, и века не прошло. В это тяжело было поверить, так Косе был свойствен ее современный вид.
не сильный умозрением пробовал я представить себе, какой она была без человека, другими словами без сосен, ежевики и берёз, без лосей, косуль и кабанов: безжалостный ветер неистово шнырял по дюнам, катая их с места на место, сдувая их на восток, безжалостный жидкий ивняк трепетал под ветром, безжалостно пролетала птица… Тут хватило бы на пронзительную, воющую, как ветер, но одну балладу: поэт бы позаворачивался в плащ, поприщуривался вдаль, поскрипел песком на зубах, шепча эту великую строчок, ясную, как эта обнажённая Коса, и укатил бы в том же экипаже, подняв верх и задраив шторку, не оглядываясь. Бессмертная поэма уже видела все собственными зрячими строчками… Нет, таковой Косы я не видел и не скорбел о ней — предлог задуматься, неизменно ли верно скорбеть об ушедшем: не все воды утекли на отечественных глазах…
Но и это удивление, что почва эта частично неестественна, как да и то, что она не моя, как да и то, что она запретна, не растолковало еще этого ее особенного бесплотного состояния — была и еще, последняя, наконец в самом деле обстоятельство: эта почва не была почвой по большому счету. Принципиальный картограф имел возможность бы не наносить ее на карту либо должен был подыскать новый род условного обозначения — не почвы и не воды — род пунктира.
Она не удовлетворяла показателям, которыми мы определяем сушу, по крайней мере, главному показателю, другими словами с позиций науки, верящей показателям, а не глазам, почвой и не была. Коса — с таковой, буквальной точки зрения была морем, а не почвой. Эго было дно, гипертрофированная отмель, высунувшаяся из воды.
Строгий ученый сообщил бы, что она не более почва, чем поясницы кита, вынырнувшего из воды, с тем дабы через время нырнуть снова. Он бы снисходительно улыбнулся: простая ошибкапутать человеческое время с геологическим. С геологической точки зрения Коса временно высунулась над поверхностью Мирового океана, на время, столь маленькое, что и вправду более сравнимое с существованием как суши поясницы кита, чем с какою бы то ни было, кроме того самою мимолетной, геологическою эрой.
Она в самом деле мимолетное образование, эта Коса, — ее перегоняет ветер, она мчится в сторону материка со сказочною скоростью: десятки сантиметров в год. Человек пробует остановить это геологическое мгновение: оно замечательно. Он насаждает леса, проектирует некую ужасную плотину, ограждающую Косу от моря.
В то время, когда он ее наконец остановит, это будет уже не Коса, это будет — плотина.
Это уже годилось в объяснение, превращая необычное в убедительное: тут не было ничего от материка. То, что это не область внушения — особенное состояние земной поверхности на Косе, — доказывается не только обратной последовательностью, необъявленностыо обстоятельств и первозданностью удивления, но и следующим, еще позднее настигшим меня фактом: в духовную чистоту Косы был вкраплен материковый прыщ — Коса в собственном беге настигла островок, но еще не обогнала его; на этом, слившемся с Косою отрезочке материка вы ощутите отличие: тут иные токи пронизывают почву, тут более плоское, более плотское и злостное все, кроме того небо; тут поселились рыбаки, корявые люди, бегают не высокий, корявые их собаки (словно бы особенная порода под постоянным действием ветра…) — Тут второй воздушное пространство, другие дожди- тут почва.
И местные обитатели словно бы в самом деле живут как на острове, не считая Косу за сушу, с каким-то чуть ли не пренебрежительным прищуром, если не испугом, наблюдают они со собственных огородов на нее, как вдаль, как в море. Чужое — это не собственный.
Преисподняя Босха состоит чуть ли не в первую очередь из орудий ремёсел предметов и полного перечня быта его времени. Если судить по подлинности изображения, они воспроизведены в точности. По всем правилам и со всеми приспособлениями строительной техники строится нечистыми их башня.
Безбожники подогреваются в сковородках и кастрюлях, которыми, по-видимому, пользовалась каждая домашняя хозяйка.
Легко этих орудий и обыдённых предметов большое количество, они все сходу, за один взор. В аду Босха пугает как раз сходство с судьбой… Преисподняя обетованный…
По имеющимся у нас сведениям, человек не может вообразить себе то, чего он, так или иначе, не видел. Образные представления человека об аде значительно более развиты, дифференцированы и детальны, чем о эдем. К тому же преисподняя, так сообщить, прекрасно заселен нами и отечественными привычными.
Преисподняя нам как бы понятен.
Достаточно изобразить в тесной близости (скажем, на одном холсте) и одновременности встреченное нами в повседневном опыте, и страшное соседство кастрюли, слизня и розы в раковине (прелестный дворик хозяйки в Крыму, где я пишу вот эту страницу…) исполнится адского смысла. (И птицы еще не улетели из этого повествования… у Босха мы в обязательном порядке встретим и рыбу и птицу, причем взору птицы, что самое страшное, он постоянно придаст не устрашающее, а такое любопытно-доброе выражение…)1. Эдем мы воображаем себе бедно и непривлекательно до сосущего ощущения скуки во рту: кущи… Побывав на Косе и не встретив в собственной жизни ничего ей аналогичного, я могу себе представить эдем словно бы бы с большей достоверностью: данный мир также неотличим от отечественного, в нем не придумано невиданного нами, но очень многое из виданного устранено.
Данный мир безукоризнен и свободен, он бесстрастен, в нем нет боли и нет надежды, он лишен отечественного отношения к нему: он имеется, но он без нас, он как бы и без тебя. Оттого и существование тут так страно не отягощено, что нас в нем нет, а в то время, когда мы в нем, то это уже как бы и не мы.
Не знаю, из-за чего в этом раю так легка идея о смерти… Возможно, вследствие того что так как и сам эдем — по окончании смерти, вследствие того что смерть — уже была…
С этого дня и ежедневно… я выходил из-за собственной непишущей машинки и сходу, за порогом, появился в том месте, где писать нечего и незачем, по причине того, что достаточно видеть, видеть и благодарить судьбу за то, что даны глаза и дано глазам… Я делал пара шагов по песку в сторону моря и, за следующим барханчиком с растрепанной причесочкой осоки, знал, что замечу море. Это любой раз оправдывавшееся ожидание никак не утрачивало собственной остроты: я огибал полбарханчика, в ложбинке, последним, самым сильным порывом, словно бы не пускал ветер, — и внезапно стоял на берегу и снова осознавал, что и в том месте, в будке, где машинка, и до тех пор пока я шел, все время шумело море, что данный шум и выманил меня взглянуть, что шумит: оно и шумело. Я вдыхал выделенной грудью и неизбежно наблюдал вдаль.
«Вот так бы неизменно и наблюдал…» — эта очевидная фраза достаточно совершенно верно передает суть моего занятия, за ней направляться вздох — и я уже не наблюдаю на море. Меня занимает вопрос, чем ограничено удовольствие, в случае если на его пути нет препятствий? Мне некуда было спешить, и не было человека, что бы меня поторопил.
Не полчаса и не пять мин., пологаю, что и не 60 секунд, а так, с полминуты, причем последние секунды натужные и неестественные, прищуривался я вдаль, а в том месте — сказал данный мысленный вздох, и все было кончено.
Я задал вопрос доктора, что он по этому поводу думает, в то время, когда мы развернули назад…
— Простите, что я в сторону. Но вот мы шли и шли с вами по берегу, в полной мере поглощенные беседой, которою и по сей день поглощены, а я вот последние мин. пять нет-нет и думал, в то время, когда мы развернём назад? Мы не голодны, и не устали, и, Наверное, никуда не спешим и не скучаем; берег на всем протяжении фактически однообразный, местность не переменится до завтрашнего дня… Но, думал я, мы — развернём.
Что было и что кончилось, что мы развернули назад?
Какая константа срабатывает в нас, определяя протяжённость и степень насыщения каждого действия? Допустим, нас ничего не связывает и не обязывает — мы не можем на красивую необязательность беседы отвести всю жизнь… Но представьте, что вы влюблены, идете с любимой — так как также развернёте назад. Ожидать под часами вы станете полчаса, час, у подъезда — всю ночь, но не до Нового года.
Вы расстаетесь с восходом солнца, девушке пора к себе, мама и все такое… но так как и час назад была та же мама и уже большое количество часов пора было расстаться, но почему-то как раз в эту 60 секунд делается совсем пора. Соловей либо жаворонок? По окончании какого именно по счету уговаривания Ромео наконец уходит?
Из-за чего не раньше и не позднее? Из-за чего я не думал о времени, пока мы шли, и по сей день не думаю, а мы идем уже назад? Какая идея вынудила нас развернуть?
— По-видимому, в этом случае вот эта и вынудила, — сообщил во всем правильный врач. Мои рассуждения были так ненаучны, что он их миновал. По этому поводу он имел возможность мне поведать только о биологических часах. Но это было уже совсем о втором… Видите ли, биологические часы — это…
Я слушал его, и меня донимало сейчас следующее мысль: чем занята, а чем не занята наука? Разве мой вопрос не может быть изучен с точностью, вычислен, растолкован? Какую закономерность из множества закономерностей выхватывает наука для изучения (речь не идет, конечно, о развитии направлений, которые связаны с прикладными необходимостями, — обращение о так называемой чистой, естественной науке, которая связана с познанием окружающего мира)?
— Следующую, — сообщил врач.
— Другими словами?
— Мы ищем закономерность, следующую за открытою нами.
— Не думается ли вам при таких условиях, что вы неизбежно уйдете в сторону?
— Другими словами? — задал вопрос врач.
— Другими словами вы начали изучать явление, открыли некую закономерность, от нее нащупали движение к второй, от той к пятой и без того потом. Не забыли ли вы о явлении, которое начали изучать?
— Ага, — сообщил врач. — Не забыли.
— Ну как же, — осклабился я. — Вы изучаете птиц. Вас заинтересовали перелеты. Вы изучаете перелеты — вас за интересовал энергетический фактор.
Вы изучаете обмен, как в том месте, метаболизм? — сосредоточиваетесь на трансформации веса птиц. Изучаете жир птиц. Не думается ли вам, что вы уже изучаете жир?
— Но так как мы все до этого уже изучили?
— Но у птицы имеется глаза, крылья, птичий мозг имеется у птицы?
— Сообщите, — засмеялся врач, — вы ни при каких обстоятельствах не были двоечником?
— Был, — дал согласие я.
Вот так выходил я на море или дабы застать на берегу только что вышедшего на берег врача, или он выходил следом за мною, заспанный, совершивший бессонную ночь в расчетах. Не складывались его цифры, молчали мои буквы — не здороваясь, мы продолжали вчерашний разговор.
Я утратил каждый стыд. Я отдавался тщеславию быстро-схватывающего ученика. Я задавал ему вопросы, не заданные в раннем детстве.
Может, я и не получал на них ответа, но от комплекса освобождался. Все те вопросы, без ответа на каковые я отказывался осознавать дальше и приобретал неуд.
Больно ли насекомому? думает ли птица? ощущает ли дерево? имеется ли у зверей чувство юмора? куда подевались промежуточные эволюционные звенья (другими словами из-за чего человек бежал по данной лестнице через ступень)? закончилась ли эволюция и из-за чего? чем питается такое количество комаров в мое отсутствие? возможно ли без ущерба удалить паразитов из биологической цепи? имеется ли наружные половые органы у птиц? И все это достаточно скоро сводилось к какому-нибудь из коварных вопросов, каковые, со своей стороны, сводились к одному: что имеется человек?
И не было ответа на данный вопрос. Одни косвенные оговорки.
— В том смысле, в каком вы желаете, — сообщил наконец врач, — ответа и быть неимеетвозможности. Человек равен самому себе. На большее он не может.
Что такое человек, имел возможность бы знать один только Всевышний, если бы он был.
— Вы уверены, что Его нет?
— Пологаю, что Его не было.
Я открыл было рот еще дальше — он сообщил:
— Не будем говорить о Нем всуе. Эта заповедь не противоречит науке.
Я не сильный по поводу нужных сведений… Все, что он знал как эксперт и что я имел возможность почерпнуть от него с точностью, пролетало через меня, навылет. Меня постоянно интересовало, как в конфеты «подушечки» варенье кладется…
То, что я от него определил по делу, в полной мере имело возможность уместиться на какой-нибудь задней обложке «понемногу о многом» либо «ничего обо всем». Думается, в Новой Зеландии водится некая птичка, которая во время сезона размножения сооружает на земле домик с дверью и, заботясь за самочкой, приходит на свидание с цветочком в клювике. Либо что птицы раньше людей постоянно знали, что Почва шар, одновременно с этим азимут на протяжении перелета птицы берут из допущения, что Почва — плоская (возможно, я уже перепутал…). Либо что птицы не болеют…
Последнее я пережил пара с громадным вживанием, чем другие занимательные сведения… Это утверждение пришло в полное несоответствие с другим, незадолго до поглощенным мной (я, конечно, все принимал на веру), в частности: что все птицы больны, что нет небольной птицы.
— Это лишь думается, что птицы радостно порхают, — с долей элегичности сообщила мне сотрудница Н. (она возвращалась с ловушек и несла в особом плоском ящичке, затянутом сверху сеткой, с фоторукавом на входе, трепыхающийся улов). — Это сверху — чистота и пёрышки. Подержал бы кто-нибудь их, как мы, в руке — заметил бы, что они кишат, бедные, паразитами, покрыты травмами и болячками…
Эти тяготы за внешним покровом легкости (еще бы — парят!) позвали во мне сочувствие и доверие. Врач пояснил мне мое удивление: это все внешнее, и это так; птицы не болеют в том смысле, как другие теплокровные, среди них и мы: они не болеют с температурой, ей некуда увеличиваться. Тут я осознал полностью те 42 градуса, немногое из того, что не забывал со школы: птицы живут на пределе (цена полета…).
Их обмен протекает на пределе интенсивности, вероятной для теплокровного.
Они все в лихорадке и горячке. Отечественное легкое 37,5 — это их 43, другими словами смерть. Вот в каком смысле не болеют птицы.
Мне представилась настоящая теснота судьбы, на которую любой из нас жалуется с таковой интенсивностью как раз, дабы не воображать себе полную меру (отечественные трудности все — временные, нам не хочется воображать себе, что они и имеется норма, что не редкость, к примеру, война, в то время, когда люди не болеют практически как птицы). На данной редчайшей Почва, где кислород разведен ровно в той мере, которою мы можем дышать, где нам еще с грехом пополам хватает пресной воды, еще и температура тела заключена в узенький, как луч, диапазон, где Т° 42°.
Все это пространство поделено и переделено на ареалы и ниши, где нам, летая и глотая с утра до ночи, еле достаточно пищи продержать эти 42 (37) градусов, где переостыть либо перегреться, как недоесть и недопить, — смерть. Все это близко и впритык, все пересечено и взаимосвязано так, что, если бы было время оторваться от насущности прокорма, в то время, когда твое существование нужно думается тебе единственным, и задуматься, то и не смочь отделить собственный существование от другого, и отдельное ли ты тело либо сросшаяся часть неспециализированного, так и не сообщишь точно.
Вот — птица. Это громадная птица. Посмотрите ей в растопыренный глаз — вы не встретитесь с ней взором. Это у мелких пташек те живые бусинки, что кажутся нам понятными. У данной — дикий, страшный, красный глаз.
Это в небе она прекрасна («то крылом волны касаясь…») — тут, в руке, она некрасива и страшна.
Она — так не мы, что ни в какой грех антропоморфизма тут не впадешь.
Это была чайка (сотрудники спорили, определяя ее вид). Чайки не попадают в ловушки. Ее принес мальчик Саша, юннат, приобщавшийся к будущей профессии на биостанции.
Он был розов, круглощек, черноглаз, юн, здоров, любим мамой. Чайка была потрясающе на него непохожа. Он был возбужден и без финиша повторял собственный рассказ.
30 УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА
Удивительные статьи:
- Европа в х веке. гибель святослава
- Пояснение:о буквальном смысле слов
- Когда и как работать с картой на уроках истории?
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Или новые сведения о человеке 1 страница
В. Р. Дольнику Мне бы не хотелось обнаружить в этом стиль… Другими словами мне бы не хотелось, дабы эффект, которого я собирается достигнуть,…
-
Или новые сведения о человеке 5 страница
Я и проснулся не помня. Вышел в раннее утро. Солнце сияло. Блистали капельки на ветках. Курилась трава. Еще яростнее, чем в большинстве случаев, щебетало…
-
Или новые сведения о человеке 2 страница
Имеется радостная закономерность в том, что истина удаляется по мере приближения к ней, и если вы так уж рветесь, вам нужно будет довольствоваться всякой…
-
Или новые сведения о человеке 6 страница
Ах, в случае если б мне тогда посоветовали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть в пейзаже разъясняются словом пустыня на горизонте, я бы…





