«История одного города» (1869–1870) – произведение воистину новаторское, преодолевшее привычные рамки художественной сатиры. И. С. Тургенев покинул свидетельство о впечатлении, произведенном «Историей…»: «Я видел, как слушатели корчились от хохота при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что?то практически ужасное в этом хохоте, по причине того, что публика смеясь, одновременно с этим ощущала, как бич хлещет ее самое».
Главный конфликт произведения – власть и народ в Российской Федерации; неприятности, поднятые писателем, глубоко национальные и одновременно общемировые.
Повествовательная композиция является чередованиемнескольких ликов рассказчиков. В начале «Истории…» очевидна маска бесстрастного издателя, ориентирующегося, якобы, на официальных историков, каковым был М. П. Погодин. Задача издателя, как она изложена им самим, – продемонстрировать лицо города в развитии, в разнообразных переменах, изложить биографии мэров, их влияние и разнообразие мероприятий на обывательский дух.
Так подспудно обнаруживаются правила реалистического историзма, одной из линия которого стала высокая степень типизации: в городе Глупове отразился целый русский мир, жизнь всей России, а «столетняя» летопись – свернутая хроника истории России. Не обращая внимания на то, что границы летописания указаны совершенно верно (с 1731 по 1829 г.), они – художественная условность, и за ней скрыты совсем иные исторические масштабы.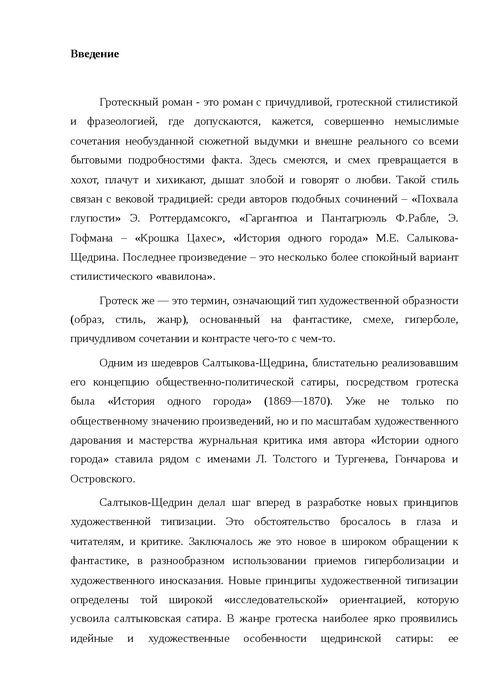
Издатель «передоверяет» повествование четырем архивариусам?летописцам, но его голос неоднократно будет врываться в летописный строй комментариями, уточнениями. Иногда они «серьёзны» до пошлости, иногда псевдонаучны, квазиточны, иногда открыто комичны. Издатель заявляет о себе и композиционными ответами, к примеру, представить биографии лишь превосходных мэров.
В целом создатель получает нужного эстетического впечатления: картина глуповской жизни предстает как «объективная», «эпическая».
«Обращение к читателю от последнего архивариуса?летописца» еще более усложняет и обогащает содержательный строй и повествовательную композицию произведения. «Разглагольствование» Павлушки Маслобойникова в одно да и то же время высокомерно и уничижительно. Провинциальный умник начала XIX в. прибегает к высокой риторике, характерной XVIII в., и ставит цель – отыскать в русской истории собственных Неронов и Калигул.
Имена римских императоров, известных не столько собственной национальной мудростью, сколько сумасбродством и жестокостью, далеко не случайны. Русская монархия, подсказывает читателю создатель, – преемница не лучших, а нехороших мировых политических традиций.
Главный композиционный прием произведения – летописное «преемство мэров». Преемственность проявляется не только в последовательной смене правителей. Всех властителей заботят не благоденствие сограждан и процветание города, а вечное и безраздельное господство, которое основывается на репрессиях и самоуправстве.
Это наиболее значимый сквозной мотив книги, заявленный на первой же странице и воплощенный в разнообразных сюжетно?тематических ходах.
Терпение народа, покорно и бездумно несущего кошмар самодержавия, – еще один сквозной мотив «Истории одного города». Сарказм помогает сатирику для негодования и выражения боли: «…в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, выполненного доверия».
В главе «О корени происхождения глуповцев» оба основных мотива отнесены к пра?историческим временам. С целью художественной стилизации русском древности создатель прибегает к пародии известнейших древнерусских монументов: «Слова о полку Игореве» и «Повести временных лет».
Легенда о разрозненных славянских племенах, пригласивших на княжение варяга, сначала получает под пером сатирика комический вид (чему во многом содействуют приемы художественной псевдоономастики в обозначении племен: лукоеды, куралесы, лягушечники, проломленные головы, слепороды, кособрюхие), а после этого преобразовывается в абсурдную картину судьбы предков глуповцев – головотяпов. Салтыков блестяще применяет приемы фольклорного жанра «небывальщины» – небылицы, и поговорки и пословицы.
Описание неудавшегося внутреннего устройства – проявление броского писательского таланта, питающегося традициями устного народного творчества. «Началось с того, что Волгу толокном замесили, позже теленка на баню тащили, позже в кошеле варили…» Кончилось тем, что «божку[213]съели… Но толку не было. Думали?думали и пошли искать глупого князя».
Финал «легендарной» главы?экспозиции вызывает у читателя уже не хохот либо удивление, а совсем другую эстетическую реакцию: от горестного неприятия (сцена плача головотяпских послов, «захотевших себе кабалы» и пожалевших об потерянной воле) до протеста (трагикомичные эпизоды первых притеснений, первых бунтов и первых ожесточённых расправ).
Поразительный художественный эффект главы «Опись мэрам…» основан на совмещении двух художественных замыслов, на приеме образного и стилевого контраста. Первый замысел – жизнеподобные подробности в описании мэров и строгий стиль официальных документов. Реестр начальственных особ составлен в хронологическом порядке.
Он содержит краткие биографические справки, описание «деяний», и служебного либо жизненного итога двадцати одного мэра. Значимы их фамилии и имена: Бородавкин, Подлецов, Прыщ, Перехват?Залихватский и пр. Кратко констатируется нелепо?комичные смерть либо отстранение от власти: «растерзан псами», «сослан в заточение», «погиб от объедения», «смещен за невежество».
Стилизуется казенный реестр: номер следует за номером – в следствии вырисовывается обобщенное лицо самодержавия. Нумерация усиливает мотив унифицированности, поразительного однообразия служителей власти. Большая часть мэров – авантюристы и проходимцы, все – ожесточённые жестокие правители.
Безлюдные, лишенные хорошего содержания дела («ввел в потребление игру ламуш и прованское масло», «размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов») имеется итог умственной ограниченности, тупости. Большая часть отличается прихотями и странными наклонностями («обожал петь возмутительные песни…», «обожал рядиться в женское платье и лакомился лягушками»). Салтыков блестяще развивает гоголевский мотив вздора, царящего в мире русского чиновничества.
Так появляется второй образный замысел произведения – фантастика, одухотворенная комическим пафосом. Художественными находками сатирика возможно назвать сверхъестественные, но тщетные свойства мэров, немыслимые, но от этого не меньше положения и нелепые поступки. Легкомысленный маркиз да Санглот летал по воздуху в муниципальном саду.
Прыщ «был с фаршированной головой». Баклан, что был «переломлен пополам на протяжении бури», «кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (намек на Ивана Грозного и известную в Москве колокольню)». Последний пример – из последовательности неподвластных логике сопоставлений.
Авторская обращенность к читателю содержит тайную: где же происходит логический сбой? В глуповской «действительности», которая абсурдна, в головах мэров либо архиваурисов? Правильный ответ неосуществим.
Такова природа художественного гротеска – невиданной деформации действительности в художественном образе, нелогичной комбинации жизненных реалий.
Гротеск стал одним из основных форм фантастики М. Е. Салтыкова?Щедрина[214], фантастики реалистической, потому что она воплощала типические стороны угнетающей, обезличивающей человека совокупности национального управления. лучший пример тому – глава «Органчик». В художественном отношении она одна из лучших, имеет выраженный сюжет с раскрытием тайны, находками и потерями, возникновением двойников и т. д. Настоящим открытием сатирика был гротескный образ Брудастого – мэра с механической головой.
Художественное время получает конкретные очертания в главе «Сказание о шести градоначальницах» – исторической сатире на период с 1725 г. по 1796 г., в то время, когда на русском престоле сменились пять императриц, а главным средством воцарения был дворцовый переворот. Автор существенно утрирует настоящие события, превращает историческую картину в шарж.
Во многих щедринских образах «Истории…» проглядывали черты настоящих русских самодержцев. Под «толстой немкой» Амалией Карловной Штокфиш возможно подразумевать Екатерину II. Подлецов напоминает Павла I. В меланхолическом Эрасте Андреевиче Грустилове угадывался либеральный Александр I, в Перехват?Залихватском – Николай I. Помимо этого, множество совпадений возможно найти в образе Беневоленского и биографии реформатора М. М. Сперанского.
Наконец, современники писателя заметили прототип Безрадостен?Бурчеева в А. А. Аракчееве, известный политике Александра и времён Павла I, начальник канцелярии кабмина, организаторе армейских поселений.
Но автор неоднократно давал предупреждение, что его произведение не есть опытом исторической сатиры. В пылу полемики звучали слова М. Е. Салтыкова: «Мне нет никакого дела до истории, я имею в виду только настоящее».
Произвол власть предержащих сконцентрировался в образе последнего глуповского мэра Безрадостен?Бурчеева. Данный «чистейший тип идиота» наделен чертами машинной механистичности и звериной агрессии. В безрадостен?бурчеевских замыслах нивелировки общества людям отводится роль теней, застегнутых, выстриженных, идущих однообразным шагом в однообразных одеждах с однообразными лицами к некоему фантастическому провалу, что «разрешил все затруднения тем, что в нем пропадало».
Последний образ вызывает ассоциации с Апокалипсисом. Эсхатологическая образная параллель подкрепляется именем Сатаны, которым нарекли глуповцы Безрадостен?Бурчеева. Легендарно?мифологический подтекст усиливает общечеловеческий суть произведения.
Очевиден и прогностический замысел: в «Истории одного города» видится очень способное предвидение того, что стало действительностью в веке двадцатом.
болью и Состраданием писателя проникнуты картины судьбы обездоленного народа в главах «Сказание о шести градоначальницах», «Голодный город», «Соломенный город», «Подтверждение покаяния». Вымирание оставшихся без хлеба глуповцев, зарево грандиозного пожара, тотальное разрушение собственных жилищ «среди глубокого земского мира» по приказу правительства – таковы только вершинные эпизоды общих бедствий. Создатель всегда подчёркивает масштабность трагедий.
Так конкретно?исторический, национальный суть смыкается с эсхатологическим.
Воплощая правила художественного историзма, создатель пробует ответить на вопрос: что может противопоставить народ произволу правительства? Со времен пушкинского «Бориса Годунова» данный вопрос в русской литературе ставился как наиболее значимая национальная неприятность. Ответ Салтыкова, самый полно раздавшийся в главе «Голодный город», далек от оптимистического: безграничное терпение либо стихийный бунт.
Как и Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков?Щедрин видит в покорности народа позор и беду нации.
Отчаившиеся глуповцы выдвигали из собственной среды ходоков – «старателей русской почвы», писали просьбы, ожидали на завалинках резолюции. Попав на съезжую и подвергшись экзекуции, любой оговаривал друг друга. Чуть наметившийся массовый протест закончился расколом, стихийный порыв разъяренной толпы стёр с лица земли не виновников голода, а личность случайную. «Бессознательная кровавая драма» сменяется карательными мерами, направленными против бунтующих.
Салтыков безжалостен к некрасивым сторонам психологии народа, и в этом смысле он, как автор, значительно эволюционировал если сравнивать с «Губернскими очерками».
В образном строе «Истории одного города» имеется мотивы, разрешающие сказать об обнадеживающей исторической возможности. светло прочитывается суть аллегорического образа реки, вышедшей из берегов и не подчинившейся замыслам Безрадостен?Бурчеева – живая жизнь не подвластна тщетному произволу.
В символическом образе таинственного Оно, которое в финале повествования сметает Безрадостен?Бурчеева, возможно видеть не только природную стихию, восставшую против губительной политики, не только намек на народную революцию, но символ неизбежного воздаяния, суда Высшей силы. Последняя фраза «История прекратила собственный течение» – явная параллель к апокалиптическому предсказанию о финише людской истории и установлению Благодати. В этом – бытийном – замысле финал «Истории одного города» можно считать оптимистичным.
«Господа Головлевы»
Пять лет трудился М. Е. Салтыков над романом «Господа Головлевы» (1875–1880). Он стал заметной вехой в истории русского реализма. Его тема – до– и послереформенная жизнь дворянского семейства.
Сюжетное же развитие романа организовано как череда смертей участников «выморочного рода» Головлевых. Мотив смерти расширяется от жизнеподобных форм до иносказательных, условных: смерть физическая и смерть духовная тут сопряжена с символической смертью Христа. Но замечательным противовесом поднимается в финале романа мотив воскресения, сопровождаемый сопровождением вторых религиозно?нравственных мотивов: воздаяния, искупления, прощения.
Арина Петровна Головлева практически есть главой громадного семейства. Она властная, жёсткая помещица, умело управляющая и крепостными крестьянами, и домочадцами. Ее заботы о материальном благоденствии прикрываются самоуспокоительными словами о интересах семьи и материнском долге.
В действительности искренняя любовь, сострадание и забота чужды ей. Потому?то первые предзнаменования вымирания рода не колеблют ее внутреннего спокойствия и частично провоцируются ею.
Умирает ее супруг, игравший роль некоего шута в доме, но перед смертью он нежданно оборачивается высоким ужасным храбрецом, шекспировским королем Лиром, отвергнутым собственными детьми. Трагически высокое значение образа появляется и за счет евангельского сравнения, звучащего в устах умирающего: «Мытаря приехали делать выводы?.. вон, фарисеи, вон», – кричит он приехавшим сыновьям.
Еще один мытарь в головлевском семействе – Степан Владимирович, непутевый «балбес» – умирает в домашнем заточении. В представлении Арины Петровны он уже исчерпал меру ее материнской заботы, долга, промотав в Санкт-Петербурге «кусок» домашнего достояния. Сверх «меры» дать любви помещица оказывается неспособна.
Уход из судьбы Павла, которому мать в свое время кроме этого соизволила, по ее же словам, «выкинуть кусок» – дать иную часть и деревню причитающегося наследства, Арина Петровна уже поймёт как начало собственного финиша. Сама смерть Павла кроме этого случилась не от одних только физических обстоятельств – ее деятельно психологически провоцирует Порфирий, младший из сыновей.
Детальная социально?психотерапевтическая мотивировка поведения главных героев романа сопряжена с каузальностью в сюжетном перемещении. Порфирий сразу после похорон брата вступает в полноправное владение наследством и в известном споре о тарантасе позволяет понять матери ее нынешнее – зависимое положение. Фарисей снимает маску перед «милым другом маменькой» в совершенно верно вычисленный момент. «Откровенный мальчик», с детства могший подольститься к матери, уже и в ее глазах совсем преобразовывается в кровопивушку, Иудушку.
Емкое библейское имя Иуды Искариота, своим предательским поцелуем указавшим римской страже на собственного учителя Христа в Гефсиманском саду, было дано Порфирию братом Степкой. Он обрекает на верную смерть кроме того трех собственных сынов, закрывая постоянными ссылками на авторитет Всевышнего жадность, себялюбие и жестокосердие.
Один из любимых приемов обращения с родными – нежные, отечески?наставительные речи, суть которых, однако, отличается огромной неопределенностью. (В демагогический капкан и попался старший сын Порфирия Владимир, принявший письмо родителя за благословение на брак и оставшийся в итоге без мельчайших денег на жизнь.) лицемерие и Демагогия Иудушки не знают пределов. «По?родственному» он затягивает петлю и на матери, и на племянницах. Словесный гной, паутина Иудушкиных разглагольствований имеет собственный строй, собственную организацию. В речи храбреца пестрят библейские цитаты, поговорки и пословицы, слова с уменьшительно?ласкательными суффиксами, в демагогическом арсенале храбреца и высокие риторические фигуры речи.
Но Иудушка не только расчетливый лицемер, но и собственного рода мечтатель. В этом смысле он парадоксальным образом продолжает образный последовательность помещиков?мечтателей в русской литературе: Манилова, Обломова; за Иудушкой последует мечтатель?практик – Чимша?Гималайский – храбрец чеховского «Крыжовника». Конечно, что одной из обстоятельств фантастического праздномыслия Иудушки был паразитический образ судьбы богатого помещика.
В голове Иудушки складываются немыслимые проекты, но они же – свидетельство очевидной и достаточно резкой деградации Порфирия как адекватной личности.
Твёрдые характеристики автора?повествователя (пакостник, пустослов и лгун, паскудное самосохранение, праздная суета, прах) сочетаются в романе с психологизмом – прямым либо косвенным раскрытием внутреннего мира храбреца.
Подспудный голос совести, до последних дней никак, не считая запоя, не проявившийся, нежданно получил силу. Неожиданное прозрение породило запоздалое, но замечательное перемещение души Порфирия. В финале романа с особенной силой начинают звучать ужасные евангельские мотивы.
Порфирий делается «жертвой агонии раскаяния» на исходе марта, незадолго до Великого Воскресения (Пасхи), в то время, когда «страстная неделя доходила к концу». Страдания пробудившейся совести («К чему привела вся его жизнь? Для чего он лгал, пустословил, притеснял, скопидомничал?») сопоставляются со страстями Господними перед распятием.
В финале блудный сын идет к родителю: новозаветная притча получает необычное, неожиданное воплощение. На могилу матери в снежную ночь идет изолгавшийся, спившийся, чуть ли не сумасшедший день назад сын, идет, дабы покаяться, и погибает, не достигнув цели. В сюжете «Господ Головлевых» неоднократно появлялся уже данный мотив – мотив возвращения блудных детей под родительский кров[215].
Возвращались Степан, Петр, Аннинька.
Но каждое такое возвращение, вопреки библейскому первообразу, не приносило храбрецам облегчения, не давало успокоения. Дискуссионным среди исследователей романа остается вопрос: отыскал ли их Порфирий в ужасную для него ночь воздаяния, прощен ли он? Имеется основания ответить на него положительно.
Характерно его восклицание «…И забыл обиду! Всех окончательно забыл обиду!» Порфирий перед финишем уверовал. Финал романа при всей его трагичности внушает надежду: произошло – пускай запоздалое – воскресение души.
Роман «Господа Головлевы», ставший шедевром русского хорошего реализма, парадоксальным образом сочетает в себе жанровые и стилевые традиции средневековой мистерии, риторической проповеди и барочной трагикомедии, романтических готического романа и «драмы» рока. Эта многомерность «памяти жанра» наровне с глубочайшими гуманистическими устремлениями автора обеспечила образу Порфирия Головлева статус и общечеловеческий масштаб «вечного образа».
Заболевание, несчастливая супружеская жизнь, противоборство с цензурой – все это осложняло публичную и писательскую деятельность, но не угнетало борцовскую натуру М. Е. Салтыкова. Реакция, захлестнувшая Россию по окончании убийства в 1881 г. народовольцами Александра II, породила очерково?публицистические выступления писателя в защиту русской интеллигенции, неприятные размышления над судьбами тех, кто показал малодушие либо ужас в новых условиях (роман «Современная идиллия»).
История одного города
Удивительные статьи:
- Четыре соглашения в качестве излюбленного средства
- Музыкальное имя» в историческом контексте
- Общее банковское закон-во
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Детство, отрочество, юность и молодость салтыкова-щедрина
Жизненные несоответствия с детских лет вошли в душевный мир сатирика. Михаил Евграфович Салтыков появился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол…
-
Зарождение историографии истории средних веков и особенности историографии эпохи возрождения
Историческая идея в эпоху ренесанса Зарождение историографии особенности средних историографии и истории веков ренесанса. Начиная с 40-х гг. XVI в. в…
-
Глава двадцать четвёртая. благочестиво-нравоучительная история одного левита
Книга судей заканчивается одной благочестивой историей, которая, но, подобно многим вторым библейским сказаниям, вряд ли может содействовать поднятию…
-
Нравственная ответственность человека (художника, ученого) за судьбу мира. роль личности в истории
Роль личности в истории Нравственный выбор человека общества Человек и Конфликт человека и природа II. Утверждающие тезисы 1. Человек приходит в данный…





