В конфликте Обломова со Штольцем за социальными и нравственными проблемами просвечивает еще и второй, историко-философский суть. Печально-смешной Обломов бросает в романе вызов современной цивилизации с ее идеей исторического прогресса. И сама история,- говорит он,- лишь в тоску повергает: учишь, просматриваешь, что вот-де настала година бедствий, несчастлив человек; вот планирует с силами, трудится, гомозится, страшно терпит и трудится, все готовит ясные дни.
Вот настали они — тут бы хоть сама история отдохнула: нет, снова показались облака, снова строение упало, снова трудиться, гомозиться… Не остановятся ясные дни, бегут — и все течет жизнь, все течет, все ломка да ломка. (*37) Обломов готов выйти из суетного круга истории.
Он грезит о том, дабы люди угомонились наконец и успокоились, кинули погоню за призрачным комфортом, прекратили заниматься техническими играми, покинули громадные города и возвратились к деревенскому миру, к несложной, непритязательной жизни, слитой с ритмами окружающей природы. Тут храбрец Гончарова в чем-то предвосхищает мысли позднего Л. Н. Толстого, отрицавшего технический прогресс, кликавшего людей к опрощению и к отказу от излишеств цивилизации.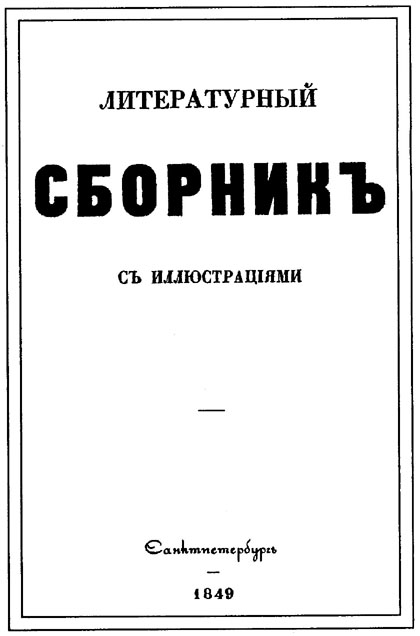
Роман Обрыв
Поиски дорог органического развития России, снимающего буржуазного прогресса и крайности патриархальности, продолжил Гончаров и в последнем романе — Обрыв. Он был задуман еще во второй половине 50-ых годов девятнадцатого века, но работа растянулась, как неизменно, на целое десятилетие, и Обрыв был закончен во второй половине 60-ых годов девятнадцатого века. По мере развития в Российской Федерации революционного перемещения Гончаров делается все более решительным соперником крутых публичных изменений.
Это отражается на трансформации плана романа. Первоначально он именовался Живописец. В главном храбрец, живописце Райском, автор думал продемонстрировать проснувшегося к деятельной судьбе Обломова.
Главный конфликт произведения строился так же, как и прежде на столкновении ветхой, патриархально-крепостнической России с новой, деятельной и практической, но решался он в начальном плане торжеством России юный. Соответственно, в характере бабушки Райского быстро подчеркивались деспотические замашки ветхой помещицы-крепостницы. Демократ Марк Волохов мыслился храбрецом, сосланным за революционные убеждения в Сибирь.
А центральная героиня романа, гордая и свободная Вера, порывала с бабушкиной правдой и уезжала за любимым Волоховым. На протяжении работы над романом очень многое изменилось. В характере бабушки Татьяны Марковны Бережковой все более подчеркивались хорошие нравственные сокровища, удерживающие жизнь в надежных берегах.
А в поведении молодых героев романа увеличивались падения и обрывы. Изменилось и наименование романа: на смену нейтральному — Живописец — пришло драматическое — Обрыв. Жизнь внесла значительные перемены и в поэтику гончаровского романа. Если сравнивать с Обломовым сейчас значительно чаще Гончаров применяет исповедь храбрецов, их внутренний монолог.
Усложнилась и повествовательная форма.
Между автором и героями романа показался посред-(*37)ник — живописец Райский. Это человек непостоянный, любитель, довольно часто меняющий собственные художественные пристрастия. Он самую малость живописец и музыкант, а самую малость писатель и скульптор.
В нем живуче барское, обломовское начало, мешающее храбрецу отдаться жизни глубоко, на долгое время и действительно.
Все события, все люди, проходящие в романе, пропускаются через призму восприятия этого переменчивого человека. В следствии жизнь освещается в самых разнообразных ракурсах: то глазами художника, то через зыбкие, неуловимые пластическим мастерством музыкальные ощущения, то глазами скульптора либо писателя, задумавшего громадный роман.
Через посредника Райского Гончаров получает в Обрыве очень объемного и живого художественного изображения, освещающего явления и предметы со всех сторон. В случае если в прошлых романах Гончарова в центре был один храбрец, а сюжет сосредоточивался на раскрытии его характера, то в Обрыве эта целеустремленность исчезает. Тут множество сюжетных линий и соответствующих им храбрецов.
Улучшается в Обрыве и мифологический подтекст гончаровского реализма. Увеличивается рвение возводить текучие минутные явления к коренным и вечным жизненным базам. Гончаров по большому счету был уверен, что жизнь при всей ее подвижности удерживает неизменные устои.
И в ветхом, и в новом времени эти устои не убывают, а остаются непоколебимыми.
Благодаря им жизнь не погибает и не разрушается, а пребывает и начинается.
Живые характеры людей, и конфликты между ними тут прямо возводятся к мифологическим базам, как русским, национальным, так и библейским, общечеловеческим. Бабушка — это и дама 40-60-х годов, но одновременно и патриархальная Российская Федерация с ее устойчивыми, столетиями выстраданными нравственными сокровищами, едиными и для дворянского поместья, и для крестьянской избы. Вера — это и эмансипированная женщина 40-60-х годов с гордым бунтом и независимым характером против авторитета бабушки.
Но это и юная Российская Федерация во все эры и все времена с ее бунтом и свободолюбием, с ее доведением всего до последней, крайней черты. А за амурной драмой Веры с Марком поднимаются древние сказания о падшей дочери и блудном сыне. В характере же Волохова ярко выражено анархическое, буслаевское начало.
Марк, подносящий Вере яблоко из райского, бабушкиного сада — намек на дьявольское искушение библейских храбрецов Адама и Еьы. И в то время, когда Райский желает вдохнуть жизнь (*39) и страсть в красивую снаружи, но холодную как статуя кузину Софью Беловодову, в сознании читателя воскрешается древняя легенда о скульпторе Пигмалионе и ожившей из мрамора красивой Галатее. В первой части романа мы застаем Райского в Санкт-Петербурге.
Столичная судьба как соблазн представала перед храбрецами и в Обычной истории, и в Обломове. Но сейчас Гончаров не обольщается ею: деловому, бюрократическому Петербургу он решительно противопоставляет русскую провинцию. В случае если раньше автор искал показатели публичного пробуждения в энергичных, деловых храбрецах русской столицы, то сейчас он рисует их ироническими красками.
Приятель Райского, столичный государственный служащий Аянов — ограниченный человек.
Духовный горизонт его выяснен взорами сегодняшнего начальника, убеждения которого изменяются в зависимости от событий. Попытки Райского разбудить живого человека в его кузине Софье Беловодовой обречены на полное поражение. Она способна пробудиться на мгновение, но образ судьбы ее не изменяется.
В итоге Софья так и остается холодной статуей, а Райский выглядит как неудачник Пигмалион.
Расставшись с Петербургом, он бежит в провинцию, в усадьбу собственной бабушки Малиновку, но с целью лишь отдохнуть. Он не сохраняет надежду отыскать тут сильные характеры и бурные страсти. уверенный в преимуществах столичной судьбе, Райский ожидает в Малиновке идиллию с петухами и курами и как словно бы приобретает ее.
Первым впечатлением Райского есть его кузина Марфинька, кормящая голубей и кур. Но внешние впечатления оказываются обманчивыми. Не столичная, а провинциальная судьба открывает перед Райским собственную неисчерпаемую, неизведанную глубину.
Он попеременно знакомится с жителями русского захолустья, и каждое знакомство преобразовывается в приятную неожиданность. Под корой дворянских предрассудков бабушки Райский открывает умный и здравый народный суть. А его влюбленность в Марфиньку далека от головного увлечения Софьей Беловодовой.
В Софье он ценил только личные воспитательные свойства, Марфинька же увлекает Райского вторым.
С нею он совсем забывает о себе, тянется к неизведанному совершенству. Марфинька — это полевой цветок, выросший на земле патриархального русского быта: Нет, нет, я местная, я вся вот из этого песочку, из данной травки! Не желаю никуда! Позже внимание Райского переключается на черногла-(*40)зую дикарку Веру, девушку умную, начитанную, живущую своим умом и волей.
Ее не пугает обрыв рядом с усадьбой и связанные с ним народные поверья. Черноглазая, своенравная Вера — тайная для любителя в жизни и в мастерстве Райского, что преследует героиню на каждом шагу, пробуя ее разгадать. В этот самый момент на сцену выступает приятель таинственной Веры, современный отрицатель-нигилист Марк Волохов.
Все его поведение — наглый вызов принятым условностям, обычаям, узаконенным людьми формам судьбы. В случае если принято входить в дверь — Марк влезает в окно. В случае если все защищают право собственности — Марк нормально, днем таскает яблоки из сада Бережковой.
В случае если люди берегут книги — Марк имеет привычку вырывать прочтённую страницу и использовать ее на раскуривание сигары.
В случае если обыватели разводят кур и петухов, свиней и овец и прочую нужную скотину, то Марк выращивает ужасных бульдогов, сохраняя надежду в будущем затравить ими полицмейстера. Вызывающа в романе и наружность Марка: открытое и наглое лицо, храбрый взор серых глаз. Кроме того руки у него долгие, громадные и цепкие, и он обожает сидеть без движений, поджав ноги и собравшись в комок, сохраняя характерную хищникам чуткость и зоркость, как будто бы бы готовясь к прыжку.
Но имеется в выходках Марка какая-то бравада, за которой прячутся беззащитность и неприкаянность, уязвленное самолюбие. Дела у нас русских нет, а имеется мираж дела,- звучит в романе знаменательная фраза Марка. Причем она так безгранична и универсальна, что ее возможно направить и госслужащему Аянову, и Райскому, и самому Марку Волохову. Чуткая Вера откликается на волоховский протест как раз вследствие того что под ним чувствуется трепетная и незащищенная душа.
Революционеры-нигилисты, в глазах писателя, дают России нужный толчок, потрясающий сонную Обломовку до основания. Возможно, России суждено переболеть и революцией, но как раз переболеть: творческого, нравственного, созидательного начала в ней Гончаров не принимает и не обнаруживает. Волохов способен пробудить в Вере лишь страсть, в порыве которой она решается на безрассудный поступок.
Гончаров и наслаждается взлетом страстей, и опасается губительных обрывов.
Заблуждения страстей неизбежны, но не они определяют перемещение глубинного русла судьбы. Страсти — это бурные завихрения над спокойной глубиною медлен-(*41)но текущих вод. Для глубоких натур обрывы и эти вихри страстей — только этап, только болезненный перехлест на пути к желаемой гармонии.
А спасение России от обрывов, от разрушительных революционных трагедий Гончаров видит в Тушиных. Тушины — созидатели и строители, опирающиеся в собственной работе на тысячелетние традиции русского хозяйствования. У них в Дымках паровой деревенька и пильный завод, где все домики на подбор, ни одного под соломенной крышей.
Тушин развивает традиции патриархально-общинного хозяйства. Артель его рабочих напоминает дружину. Мужики походили сами на хозяев, как словно бы занимались своим хозяйством. Гончаров ищет в Тушине гармоническое единство ветхого и нового, настоящего и прошлого.
предприимчивость и Тушинская деловитость совсем лишена буржуазно ограниченных, хищнических линия. В данной несложной русской, практической натуре, выполняющей леса хозяина и призвание земли, первого, самого дюжего работника между собственными работниками и совместно руководителя и распорядителя их благосостояния и судеб Гончаров видит какого-либо заволжского Роберта Овена. Не секрет, что из четырех великих романистов России Гончаров наименее популярен.
В Европе, которая зачитывается Тургеневым, Достоевским и Толстым, Гончаров читается менее вторых. Отечественный деловитый и решительный XX век не желает прислушиваться к умным рекомендациям честного русского консерватора. А в это же время Гончаров-писатель велик тем, чего людям XX века очевидно недостает.
На исходе этого столетия человечество поняло, наконец, что через чур обожествляло научно-самоновейшие результаты и технический прогресс научных знаний и через чур дерзко обращалось с наследством, начиная с культурных традиций и заканчивая достатками природы. И вот культура и природа все громче и предупреждающе напоминают нам, что всякое агрессивное вторжение в их хрупкое вещество угрожает необратимыми последствиями, экологической трагедией.
И вот мы чаще и чаще оглядываемся назад, на те ценности, каковые определяли отечественную жизнестойкость в прошлые эры, на то, что мы с радикальной непочтительностью предали забвению. И Гончаров-живописец, упорно дававший предупреждение, что развитие не должно порывать органические связи с вековыми традициями, вековыми сокровищами национальной культуры, стоит не сзади, а в первых рядах нас.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (1823-1886)
Мир А. Н. Островского
Мир Островского — не отечественный мир, и до известной степени мы, люди второй культуры, посещаем его как чужестранцы… Чуждая и непонятная судьба, которая в том месте происходит, …возможно любопытной для нас, как все невиданное и неслыханное; но сама по себе скучна та людская разновидность, которую облюбовал себе Островский.
Он дал некое отражение известной среды, определенных кварталов русского города; но он не встал над уровнем своеобразного быта, и человека заслонил для него торговец — так писал об Островском в начале XX века несомненно гениальный человек либерально-западнической культурной ориентации Юлий Айхенвальд. Утонченный интеллигент! Но его отношение к Островскому деспотичнее любых Кабаних.
И в нем, как ни прискорбно это сознавать,- обычный пример той изощренной эстетической высоты, которую отечественная культура начала XX века набирала чтобы, совсем обособившись от национальной судьбы, сперва духовно, а позже и физически сокрушить ее.
Он глубоко некультурен, Островский,- внешний, элементарный… со своей поразительным непониманием и прописной назидательностью людской души,- договаривал Ю. Айхенвальд. Колумб Замоскворечья. Эта формула посредством не весьма чуткой критики прочно приросла к его драматургии.
И глуховатость к Островскому все увеличивалась, затеняя глубинное, общенациональное содержание его пьес. Страной, далекой от шума быстротекущей судьбе, именовали художественный мир Островского далеко не нехорошие знатоки его творчества. Купеческая судьба представлялась им отсталым и захолустным уголком, отгороженным высокими заборами от громадного мира национальной судьбе.
Наряду с этим совсем забывалось, что сам-то Колумб, открывший замоскворецкую страну, чувствовал и границы и ритмы ее жизни совсем в противном случае. Замоскворечье в представлении Островского не исчерпывалось Камер-коллежским валом. За ним от столичных застав впредь до Волги шли фабричные села, посады, города и составляли продолжение Москвы — самую бойкую, самую промышленную местность Великороссии.
В том месте на глазах из сел появлялись города, а из крестьян богатые фабриканты. В том месте бывшие крепостные преобразовывались в миллионщиков. В том месте простые ткачи в 15-20 лет успевали сделаться фабрикантами-хозяевами и начинали ездить в каретах. Все это пространство в 60 тысяч с лишком квадратных верст и составляло как бы продолжение Москвы и тяготело к ней.
Москва была городом всегда обновляющимся, всегда юным.
Через Москву волнами вливалась в Россию народная сила. Все, что очень сильно талантом и умом, все, что скинуло зипун и лапти, хотело попасть в Москву. Вот такая она, многошумная страна Островского, вот таковой у нее размах и простор.
И торговец интересовал Островского не только как представитель торгового сословия, но и как центральная русская натура, средоточие народной судьбе в ее становлении и росте, в ее движущемся, драматическом существе. Сам папа Островского, Николай Федорович, не был коренным москвичом. Сын костромского священника, выпускник провинциальной Костромской семинарии, он окончил Столичную духовную академию со степенью кандидата, но выбрал поприще светской работы.
Он женился на Любови Ивановне Саввиной, дочери столичной просвирни, вдовы пономаря, девушке громадной душевной внешней привлекательности и красоты.
юношеские годы и Детские
Александр Николаевич Островский появился 31 марта (12 апреля) 1823 года в Замоскво-(*45)речье, в самом центре Москвы, в колыбели славной истории России, о которой около сказало все, кроме того заглавия замоскворецких улиц. Вот основная из них, Громадная Ордынка, одна из самых ветхих. Наименование собственный взяла вследствие того что пара столетий назад по ней проходили татары за данью к великим столичным князьям.
Примыкающие к ней Большой Толмачевский и Небольшой Толмачевский переулки напоминали о том, что в те давешние годы тут жили толмачи — переводчики с восточных языков на русский и обратно. А на месте Спас-Болвановского переулка русские князья встречали ордынцев, каковые постоянно несли с собой на носилках изображение татарского языческого идола Дурака.
Иван III первым скинул Дурака с носилок в этом месте, десять послов татарских казнил, а одного послал в Орду с известием, что Москва больше платить дани не будет. Потом Островский сообщит о Москве: В том месте старая святыня, в том месте исторические монументы… в том месте, в виду торговых последовательностей, на высоком пьедестале, как пример русского патриотизма, стоит великий русский торговец Минин.
Ко мне, на Красную площадь, приводила мальчика няня, Авдотья Ивановна Кутузова, дама, щедро одаренная от природы. Она ощущала красоту русского, знала многоголосый говор столичных базаров, на каковые съезжалась чуть ли не вся Российская Федерация. Няня искусно вмешивала в беседу притчи, прибаутки, шутки, пословицы, поговорки и весьма обожала говорить прекрасные народные сказки.
Островский окончил Первую столичную гимназию и в первой половине 40-ых годов девятнадцатого века, по желанию отца, поступил на юридический факультет МГУ. Но учеба в университете не пришлась ему по душе, появился конфликт с одним из докторов наук, и в конце второго курса Островский уволился по домашним событиям. В первой половине 40-ых годов XIX века папа определил его на службу в Столичный совестный суд.
Для будущего драматурга это был неожиданный презент судьбы.
В суде рассматривались жалобы отцов на непутевых сыновей, имущественные и другие домашние споры. Судья глубоко вникал в дело, пристально выслушивал спорящие стороны, а писец Островский вел записи дел. ответчики и Истцы во время дознания выговаривали такое, что в большинстве случаев скрывается и прячется от посторонних глаз.
Это была настоящая школа познания драматических сторон купеческой судьбе. В 1845 году Островский перешел в Столичный коммерческий суд канцелярским государственным служащим стола для дел словесной расправы. Тут он сталкивался (*46) с промышлявшими торговлей крестьянами, муниципальными мещанами, торговцами, небольшим дворянством.
Делали выводы по совести сестёр и братьев, спорящих о наследстве, несостоятельных должников. Перед ним раскрывался целый мир драматических распрей, звучало все разноголосое достаток живого великорусского языка. Приходилось угадывать темперамент человека по его речевому складу, по изюминкам интонации.
Воспитывался и оттачивался талант будущего реалиста-слуховика, как именовал себя Островский-драматург, мастер речевой характеристики персонажей в собственных пьесах.
Начало творческого пути. Собственные люди — сочтемся!
Еще с гимназических лет Островский делается усердным столичным театралом. Он посещает Петровский (сейчас Большой) и Небольшой театры, восхищается игрой Щепкина и Мочалова, просматривает статьи В. Г. Белинского о литературе и театре.
В конце 40-х годов Островский пробует собственные силы на писательском, драматургическом поприще и публикует в Московскомлистке за 1847 год Сцены из комедии Несостоятельный должник, Картину домашнего счастья и очерк Записки замоскворецкого обитателя. Литературную известность Островскому приносит комедия Банкрот, над которой он трудится в 1846-1849 годах и публикует в первой половине 50-ых годов девятнадцатого века в издании Москвитянин под поменянным заглавием — Собственные люди — сочтемся!.
Пьеса имела шумный успех в литературных кругах Петербурга и Москвы. Автор В. Ф. Одоевский сообщил: Я считаю, в Киевской Руси три трагедии: Недоросль, Горе от ума, Ревизор. На Банкроте я ставлю номер четвертый.
Пьесу Островского ставили в ряд гоголевских произведений и именовали купеческими Мертвыми душами.
Влияние гоголевской традиции в Собственных людях… вправду громадно. Юный драматург выбирает сюжет, в базе которого лежит достаточно распространенный случай мошенничества в купеческой среде. Самсон Силыч Большов занимает громадной капитал у собственных собратьев-купцов и, потому, что возвращать долги ему не хочется, объявляет себя обанкротившимся человеком, несостоятельным должником.
Собственный состояние он переводит на имя приказчика Лазаря Подхалюзина, а для крепости мошеннической сделки отдает за него замуж собственную дочь Липочку. Большова сажают в долговую колонию, но он не унывает, потому, что верит, что Лазарь внесет для его освобождения маленькую сумму от взятого капитала. Но он ошибается: родная человек дочь и свой Лазарь Липочка не дают отцу ни копейки.
Подобно гоголевскому Ревизору, в комедии Островско-(*47)го изображается похабная и хорошая осмеяния купеческая среда. Вот Липочка, грезящая о женихе из добропорядочных: Ничего и потолще, был бы собою не мелок. Само собой разумеется, лучше уж высокого, чем какого-нибудь мухортика.
И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого, беспременно дабы был бы брюнет; ну, понятное дело, чтобы и одет был по-журнальному… Вот ключница Фоминична со своим взором на преимущества женихов: Да что их разбирать-то! Ну, известное дело, чтобы были люди свежие, не плешивые, чтобы не пахло ничем, а в том месте какого именно ни забери, все человек. Вот похабный самодур-отец, назначающий дочери собственного жениха, Лазаря: Серьёзное дело!
Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет.
За кого велю, за того и отправится. Мое детище: желаю с кашей ем, желаю масло пахтаю… Бесплатно что ли я ее кормил! По большому счету на первых порах ни один из храбрецов комедии Островского не приводит к никакому. Думается, что, подобно Ревизору Гоголя, единственным хорошим храбрецом Собственных людей… есть хохот.
Но по мере перемещения комедии к развязке в ней появляются новые, негоголевские интонации. Решаясь на мошенническую махинацию, Большов честно верит, что со дочери Лазаря и стороны Подхалюзина Липочки не может быть никакого подвоха, что собственные люди сочтутся. Тут-то жизнь и готовит ему не добрый урок.
В пьесе Островского сталкиваются два купеческих поколения: отцы в лице Большова и дети в лице Липочки и Лазаря. Различие между ними отражается кроме того в фамилиях и говорящих именах. Большов — от крестьянского большак, глава семьи, и это весьма знаменательно.
Большов — торговец первого поколения, мужик в недалеком прошлом. Сваха Устинья Наумовна так говорит о семействе Большовых: А они-то разве добропорядочные? То-то и беда, яхонтовый!
в наше время заведение такое пошло, что любая тебе лапотница в дворянство норовит. Вот хоть бы и Алимпияда-то Самсоновна… происхождения-то наверно хуже отечественного. Отец-то, Самсон Силыч, голицами торговал на Балчуге; хорошие люди Самсошкою кликали, подзатыльниками кормили.
Да и матушка-то Аграфена Кондратьевна чуть-чуть не паневница — из Преображенского забрана.
А нажили капитал да в торговцы вылезли, так и дочка в прынцессы норовит. А все это денежки. Разбогатев, Большов порастратил народный нравственный капитал, доставшийся ему по наследству.
Став торговцем, он готов на мошенничество и любую подлость по (*48) отношению к чужим людям. Он усвоил торгашеско-купеческое не одурачишь — не реализуешь. Но кое-что из прошлых нравственных устоев в нем еще теплится.
Большов еще верит в честность домашних взаимоотношений: собственные люди сочтутся, друг друга не подведут. Но то, что быстро в торговцах старшего поколения, совсем не властно над детьми.
На смену самодурам большовым идут самодуры подхалюзины. Для них уже нет ничего, что свято, они с легким сердцем растопчут последнее прибежище нравственности — крепость домашних уз. И Большов — мошенник, и Подхалюзин — мошенник, но выходит у Островского, что мошенник мошеннику рознь.
В Большове еще имеется наивная, простодушная вера в собственных людей, в Подхалюзине осталась только гибкость и изворотливость прощелыги-воротилы. Большов наивнее, но больше.
Подхалюзин умнее, но мельче, эгоистичнее.
Добролюбов о комедии Собственные люди — сочтемся!. Гоголь и Островский. Добролюбов, посвятивший ранним произведениям Островского статью Чёрное царство, подошел к оценке Собственных людей… с гоголевскими мерками и не увидел в комедии прорыва в высокую драму.
По Добролюбову, в комедии Островского, как в Ревизоре, имеется только видимость сценического перемещения: самодура Большова сменяет такой же самодур Подхалюзин, а на подходе и третий самодур — Тишка, мальчик в доме Большова. Налицо призрачность совершающихся изменений: чёрное царство пребывает незыблемым и непоколебимым. Добролюбов не увидел, что в диалектике смены самодуров имеется у Островского явные человеческие потери.
То, что еще свято для Большова (вера в собственных людей), уже отторгнуто Подхалюзиным и Липочкой. Забавный и похабный в начале комедии, Большов вырастает к ее финалу. В то время, когда оплеваны детьми кроме того родственные эмоции, в то время, когда единственная дочь жалеет десяти копеек кредиторам и с легкой совестью спроваживает отца в колонию,- в Большове просыпается страдающий человек: Уж ты сообщи, дочка: ступай, дескать, ты, ветхий линия, в яму! Да, в яму!
В острог его, ветхого дурака. И за дело!
Не гонись за громадным, будь доволен тем, что имеется… Знаешь, Лазарь, Иуда, поскольку он также Христа за деньги реализовал, как мы совесть за деньги реализовываем… Изменяется в Собственных людях… и Липочка. Ее пошлость из забавной в начале пьесы преобразовывается в страшную, принимает устрашающие размеры в конце.
Через похабный быт пробиваются в финале комедии ужасные мотивы. Поруганный детьми, одураченный и изгнанный, торговец Большов напоминает короля (*49) Лира из одноименной шекспировской катастрофы. Как раз так, а не по Добролюбову, выполняли русские актеры, начиная с М. С. Щепкина и Ф. А. Бурдина, его роль.
Наследуя гоголевские традиции, Островский шел вперед. В случае если у Гоголя все персонажи Ревизора одинаково бездушны, а их бездушие высвечивается изнутри только гоголевским хохотом, то у Островского в бездушном мире раскрываются источники живых людских эмоций.
Свои люди сочтемся А. Островский #ПолныеВерсииСпектаклей
Удивительные статьи:
- Тесты для контроля остаточных знаний
- Вертикальный — горизонтальный
- Территориальный принцип церковной юрисдикции
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Смысл заглавия романа м. горького «мать». образ ниловны
ПРОИЗВЕДЕНИЕ В 1909 году М. Неприятный записывает: “Я не знаю образа более яркого, чем мать, и сердца более ёмкого для любви, чем сердце матери”. Эти…
-
Повести о трагическом смысле любви и природы
Уже в Рудине раздалась идея Тургенева о трагичности людской существования. По окончании Рудина данный мотив в творчестве писателя улучшается. Повесть…
-
Роман «обломов» как центральная часть романной трилогии
По свидетельству самого Гончарова, замысел «Обломова» «готовься » еще в 1847 г., т. е. практически сразу после публикации «Обычной истории». Такова уж…
-
Жанровые традиции и жанр романа
композиция и Сюжет помогают обнаружению, раскрытию души Печорина. Сперва читатель определит о последствиях произошедших событий, после этого об их…





