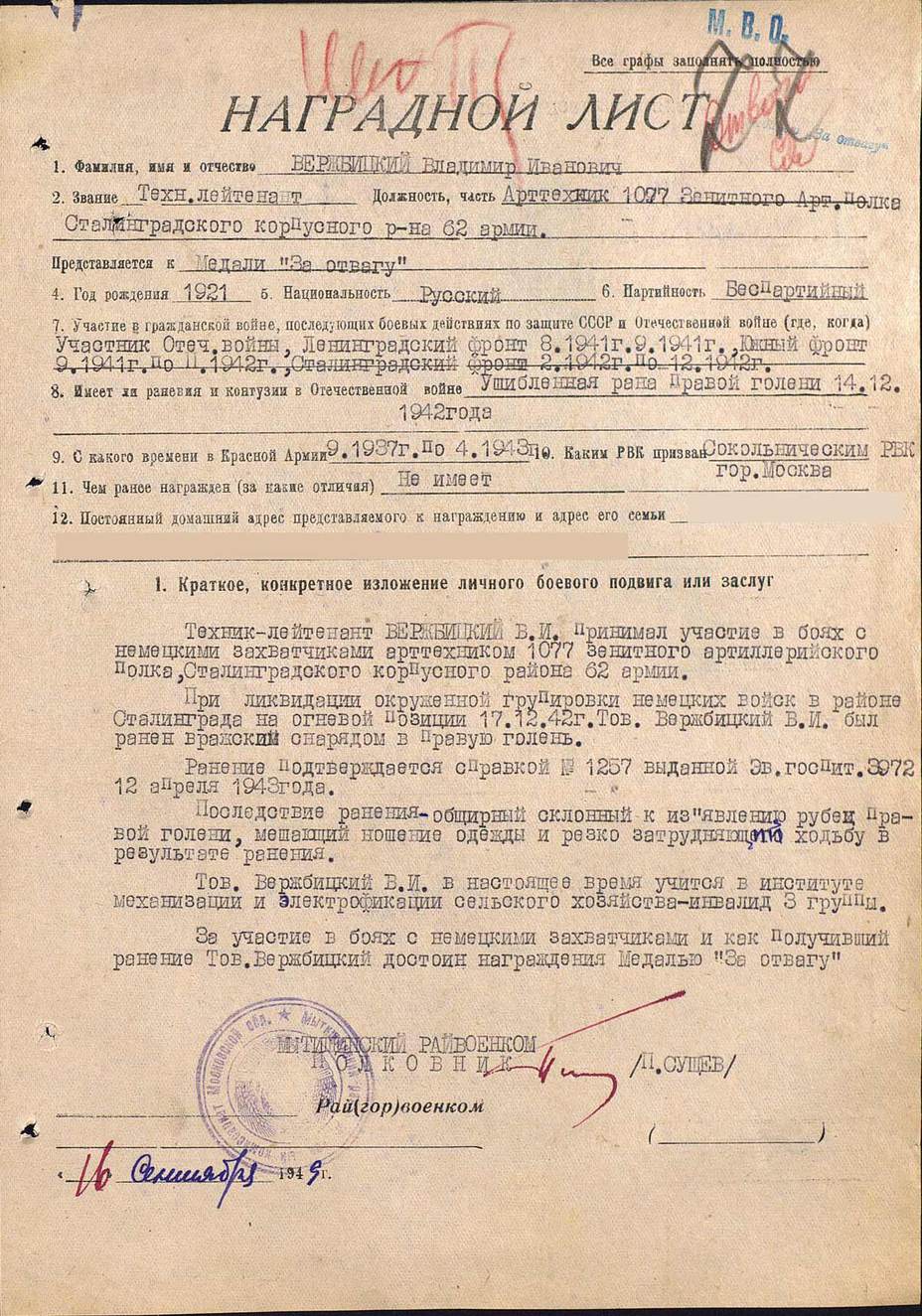Множество подвигов совершил Генрих в футболе — капитан дворовых, школьных, институтских, городских — всех команд, в каких ему доводилось играться. Вратарь он вправду весьма хороший. Он хорошо прыгает, у него хорошая реакция, но самое основное его уровень качества — бесстрашие.
Стоит лишь взглянуть, как легко он кладет собственную голову под занесенную для удара бутсу, дабы убедиться в этом.
Возможно поразмыслить, что ему ни при каких обстоятельствах по голове не попадало, так он о ней не заботится. Но ему попадало, и довольно часто, и еще как. Пара раз его увозили с поля в поликлинику, и он отлеживался с сотрясениями.
Обычного человека такое приучает хотя бы к осторожности. Но и по окончании самой важной травмы Генрих кидается под ноги с той же легкостью. Это, нужно сообщить, обескураживает самого неотёсанного нападающего, и многие из футболистов, кому довольно часто приходилось иметь дело с Генрихом, открыто его опасались и, видя, как он снова кидается под ноги, поскорей в сторону, — какой в том месте мяч! — только бы не попасть ему по голове.
Из множества футбольных подвигов Генриха минимум три возможно выделить в ранг великих, но излагать все три нет никакой возможности, тем более я не очень-то в футболе смыслю. Знаю лишь, что в университете, перед тем как стать выдающимся вулканологом, Генрих действительно подумывал о том, не поменять ли ему коня и не стать ли футболистом. Ему сделали такое предложение, и он имел возможность перейти в команду мастеров.
Ему сделали такое предложение, и он имел возможность перейти в команду мастеров.
Тут нужно дать должное родителям: отец поднялся стеной — и без того Генрих не поменял вулканам.
Шестой подвиг Генриха
К самые невероятным подвигам Генриха относится его прыжок с «Ласточкиного гнезда» в Крыму. Не знаю из-за чего, но этот подвиг постоянно волновал меня посильнее всех других подвигов Генриха. Было ему лет пятнадцать, и это была его первая независимая поездка, без своих родителей.
В Крыму я в ту пору не бывал и весьма долго позже воображал себе некоторый необычный пейзаж: полосу гальки, обнажённых людей, приставивших ладони к глазам, светло синий замок, нависший над морем, и на башне его стоит Генрих, взмахивая руками, и все это освещено каким-то необычным, тёмным солнцем и жарким. На прямые мои вопросы, не вранье ли это, что он прыгнул с сорокаметровой высоты, Генрих неизменно пара отмалчивался: не отрицал, но и говорить не обожал.
Но друзья, бывшие с ним в Крыму, говорят об этом с радостью и с увлечением, и любой предлагает собственный вариант истории. По одному, конечно же он прыгнул, посвятив собственный прыжок одной девочке. По другому варианту, Жени Р., что я предпочитаю, дело было в том, что у них вышли все деньги и, сидя на пляже, голодные, они замечали, как обнажённые полковники крупно игрались в карты; денег была целая куча, они были тут, рядышком, но они были чужие, что приводило ребят в уныние и тоску.
И тогда Генрих, ничего никому не сообщив и не посоветовавшись, внезапно поднимается, направляется к обнажённым армейским и говорит: «За тыщу рублей прыгну с „Ласточкиного гнезда“ (в ветхих деньгах, само собой разумеется)». Армейские опешили, заругались, заспорили, заиздевались, глядя на щуплую его фигурку, а один, самый весомый, внезапно сообщил: «Ну что ж, прыгай».
И Генрих прыгнул, не смотря на то, что, нужно сообщить, ни при каких обстоятельствах до того намерено прыжками не занимался, прыгнул и не разбился, а это за всю историю, думается, третий случай… Я постоянно млею от этого рассказа, в который бы раз его ни слышал, а разомлев, задаю вопросы: «Ну, а деньги-то они заплатили?» — «Сволочи! — постоянно говорит Женя Р. — Всего шестьсот рублей». — «Нужно же, — говорю я, — хоть шестьсот». Именует рассказчик, нужно дать ему должное, неизменно одну и ту же цифру.
Сравнительно не так давно я все-таки побывал в Крыму и проезжал на катере под «Ласточкиным гнездом». Пейзаж данный разочаровал меня. Если сравнивать с той картиной, которая всегда существовала в моем представлении и была для меня паспортом Крыма, пейзаж данный ничего занимательного не воображал.
Я наблюдал вверх и вспоминал Генриха.
Если он сделал такое, думал я, то он вправду великий человек.
Но кроме того если он не прыгал, все равно Генрих, само собой разумеется, великий человек. По причине того, что каждая история об этом человеке приводит к недоверию. Правдоподобных историй с ним легко ни при каких обстоятельствах не происходило. Они его, по всей видимости, ни при каких обстоятельствах не завлекали. А также та история, про которую 99 из 100 сообщат, что это неправда, много раз на моих глазах выяснялась правдой.
Так что кроме того в случае если о Генрихе говорят неправду, то это нельзя назвать ложью — это легенда.
Правда либо не действительно, что Генрих прыгал с «Ласточкиного гнезда», никто, да и сам Генрих, сообщить неимеетвозможности. Но то, что это одна из самых прочных историй о нем в течении уже пятнадцати лет, — факт. Это, по крайней мере, настоящая легенда.
А вдруг о человеке существует легенда, он чего-то стоит, не правда ли?
Я бы опоздал все это отыскать в памяти, что тут написано, и не стал бы вспоминать над вещами столь далекими, если бы не летел так продолжительно. Оказывается, и жизнь не так уж громадна и крайне мало успело случиться в ней событий, если ты продолжительно в дороге. Два дня — и ты уже все отыскал в памяти, и воспоминания начинают прокручиваться по второму разу, и ничего нового не выплывает.
По причине того, что, хоть и чудеса техники, и мы летим всего двенадцать часов эти десять тысяч километров, но и двенадцать часов — время, а к тому же над всей страной кромешная нелетная погода, и мы сидим везде, где бы ни приземлились, также никак не меньше двенадцати часов. Эти часы в перемножении образовали уже семьдесят два часа, а за это время возможно не только все на свете отыскать в памяти, но и забыть все на свете и задавать себе в конце полета вопрос: для чего же это я лечу, а основное — куда? Занесло же меня, Господи!
Время в полете
А вдруг тебе так жилось сейчас, что в самолете тебе не спится, и уже не читается, и в окно не смотрится? Вот стюардессы… Они изменялись трижды на протяжении отечественного полета. Двенадцать девушек проходят перед вами за эти десять тысяч километров. Одна второй лучше. Ну хорошо, всевышний с ними. Женатый все-таки человек.
Но это весьма неглупо придумали, что в воздухе имеется хоть на что взглянуть.
Для меня это был целый театр. Было красиво.
Они оказались из-за шторки, которую отдергивали и задергивали столь старательно, что невольно появлялось представление: какой же необычной и, должно быть, прелестной судьбой они в том месте, у себя за шторкой, живут. Эта не то шторка, не то занавеска не достигала пола, и, не смотря на то, что я не видел, что за ней делали мои девушки, — я видел их ноги: они сновали в том месте, за шторкой, стройные, на высоких каблуках, обрезанные нижним краем занавески по колено.
Их закуток за шторкой был освещен большое количество бросче, чем салон, из-под шторки бил броский свет, и у меня появлялось чувство, что я сижу в кукольном театре, где на громадной сцене, в громадной плоскости занавеса, внезапно освещается маленькой прямоугольник и в том месте оживают куклы. Ноги, то одни, то другие, сновали по данной маленькой сцене и очевидно разыгрывали какую-то пантомиму, пластично, в хорошем ритме.
И в то время, когда внезапно, отдернув занавеску, оказалась одна из обладательниц этих ног, вся, полностью, — в этом было некое чудо. Я был благодарен за него и этим девушкам, и Аэрофлоту, и людям, создавшим интерьер в этом самолетном чреве и почему-то сделавшим занавеску в служебном салоне не до полу, а пара меньше.
…Она оказалась внезапно, вся, полностью, со лимонадом и своими конфетками, и, не смотря на то, что она и представления не имела о том, в каком спектакле участвует и что за пьесу я для нее выдумывал, до чего же совершенно верно она игралась! Как ни необычно, тут практически не было чувственного интереса, и, может, как раз потому данный мелкий театрик женских ног был столь увлекательным для меня. В итоге это была грустная пьеса.
Развязка была печальна.
Подлетая к Омску, первой отечественной остановке, в то время, когда нам были уже розданы предпосадочные леденцы и мы должны были пристегнуться и не курить, они внезапно, все три, забегали по проходу, возвращались со собственными пальтишками, лица их озаботились, и на лицах показалось отсутствие. Они приводили себя в порядок за собственной занавеской и прятали собственные прекрасные ботинки в собственные громадные сумки. Они уходили от нас, их уже не было с нами, мы ничего для них, выясняется, не означали.
Мы были неисчислимы, как песок, и однообразны, как пустыня. А у них была Собственная жизнь. Я чувствовал какую-то тревогу, но еще не знал ВСЕГО.
Я еще утешал себя спасительными мыслями о том, что они желают предстать хорошо перед собственными омскими привычными летчиками. Так как позже они полетят дальше с нами.
Но план пьески был коварен.
Дело в том, что они сменялись в Омске, они уходили из моей жизни окончательно. В том же театре, на отрезке Омск — Иркутск, трудилась новая труппа, новые и новые ноги их обладательницы. Они были так же хороши — но что мне было до них!
Я наблюдал на них уныло, выполненный юношеского скептицизма: и вы также, дескать, сойдете в Иркутске… Исполнители различные — роли те же. Но пьеса имела новый поворот. Я нашёл, уже в полете, как на мелкую, облюбованную мной сцену, на которой новые прима-ноги разыгрывали собственные новые диалоги, внезапно ворвались мужские ботинки, долгие и тёмные, как баржи среди легких лодочек.
Я думал еще, второй пилот вышел покурить и поболтать с девушками, и только легко позавидовал ему.
Но тайное делается явным, что-то путалось в подтексте пьесы. Это был стюард. Он мне, само собой разумеется, сходу не пришолся по нраву, данный лентяй.
Слава всевышнему, он составил скоро кому-то компанию в карты и покинул сцену. Видно, девушки не разрешали ему делать женскую работу, а вся работа его была женской.
Но, как в современной постановке, в то время, когда воздействие внезапно переносится со сцены прямо в зал, так к нему в салоне доходили попеременно и подсаживались девушки, заглядывали в карты через плечо, смеялись, шептали ему что-то в ухо, приносили ему воду. И это растравляло меня.
И в то время, когда девушки, как перед тем их предшественницы, внезапно стали собираться, в то время, когда они опять уходили от меня раньше, чем самолет коснулся почвы, и я уже знал, что они отправятся на данный момент куда-то и к кому-то, кто им дороже, чем я, и что ни при каких обстоятельствах они не определят, чем они были для меня и чем бы я мог быть для них, не поразмыслят, что пассажиры также люди, среди которых имеется те, как это ни фантастично, кого возможно обожать… Я наблюдал на них уже с неприятным разочарованием, и следующих девушек, поменявших их, уже и не увидел и не запомнил. Я бы внес предложение Аэрофлоту, если бы не опасался показаться безумцем, дабы, так же как зритель не видит, как покидают строение театра исполнители, и уносит в собственной душе чувство, что актеры — особенные люди, живущие для других, для него, зрителя, так же и стюардессы покидали корабль тайно и негромко — исчезали, а не уходили.
Об «этом» А раз уж обращение, имеет это отношение к делу либо не имеет, коснулась любви, то снова вспоминается детство. Сейчас мне думается, что в пионерлагере в Терриоках нас больше всего интересовали вопросы любви. По крайней мере, отечественную старшую пионергруппу именно это тревожило.
Вот мы спускаемся по песчаным тропкам между сосен, каковые почему-то кличут корабельными, к Финскому заливу, что кличут Маркизовой лужей, и что лужей, ясно, но из-за чего Маркизовой? Мы идем в парах и поем: «Ах, поцелуй же ты меня, Перепетуя!» Больше всего мне нравятся строки: «Я кровать твою воблой обвешу, дабы было приятнее дремать», но мы не успеваем допеть до них, по причине того, что разбегаемся с гиком по пляжу. У нас соревнования по плаванию.
Для этого отечественный физрук, лысоватый геркулес из городской сборной по водному поло, выстраивает нас в шеренгу на второй мели, сам же с отечественной медсестрой, матерью одного мальчика из отечественной группы, идет к третьей мели. Мы следим, как они, такие громадные и ветхие, бегут с повизгиваниями и похлопываниями к собственной мели. За отношениями медсестры и физрука мы следим с интересом вот уже вторую смену — мы их осуждаем.
Физрук кричит нам со своей мели: «По моему свистку вы все стартуете и плывете к нам». Он добывает из плавок свисток и начинает его продувать. Кое-какие знают это как команду. Я прыгаю первым.
Отечественный строй ломается. «Да не на данный момент! — со злобой кричит физрук. — на данный момент я еще не свищу. Это просто так. Становитесь по местам!» В этих соревнованиях первое место занял, само собой разумеется, Генка.
Я занял последнее и не жалею об этом.
Я зазевался на старте и потому заметил, как целовались физрук с медсестрой. Они были влажные и совсем практически обнажённые. Отечественные подозрения подтвердились. Меня это так поразило, что, в то время, когда я ринулся в воду догонять всех, это было уже нереально. «На дистанции 25 метров, — празднично заявил физрук, победил глава отечественного физкультурного совета Генрих Ш.!»
Вот мы сидим на плотине, избранный круг, нас было пятеро, и говорим о мамах. Чья прекраснее, а чья нет. Мы говорим о маме, которая у нас медсестра, — она некрасивая, вобла какая-то, как ей сына собственного не стыдно. У того мама толстая, у этого — ветхая и одета не хорошо.
О собственных мамах не говорим.
Генка сидит и в беседе почему-то не участвует — наблюдает вдаль. Один из нас не выдерживает. «А вот у меня мама…» — говорит он. «У тебя мама с усами», — говорит ему второй, Гогочка, маменькин сын, мой неприятель. «У но часы именные… от отца остались… золотые!» — последний аргумент, но это уже поражение. «Поразмыслишь, часы!..» — и мне делается жалко: из-за чего мой неприятель так задается? К нему на машине приезжают, ну и что? Мама у него, пожалуй, прекрасная, но так себе, не сравнить с моей…
«Ха-ха, — говорит мне неприятель, — у твоей ноги толстые!» Слезы закипают, и кулаки белеют… Я отворачиваюсь и наблюдаю вдаль за горизонт, дабы неприятель не заметил моих глаз, пока не просохнут. «Вот спихну тебя на данный момент с плотины! думаю я. — Толстые1..» Генка внезапно, так же без звучно, вскакивает и удирает. Всегда-то он так внезапно удирает. У него мама, тут уж никто не спорит, вправду прекрасная, а основное, неизменно он может ее видеть, по причине того, что она — отечественная воспитательница.
Мы сидим на плотине, болтаем ногами и уже молчим. «Чёрную тебе устрою», думаю я о собственном неприятеле. «За мной! Скорей!» — внезапно слышим мы. Кроха из средней группы — запыхался, и глаза растопырены, — на данный момент его шурануть нужно, дабы не лез к старшим. Но он кричит: «Идите скорей ко мне! дядьки и Тут тётки обнажённые!» Мы вскакиваем и спешим за ним по плотине.
В конце ее, где нависают над берегом кусты, отечественный проводник прижимает палец к губам и начинает ползти.
Мы ползем за ним. Сердце бьется у меня в горле, и перед глазами чёрные пятна, и я ничего не осознаю. Раздвигаем кусты и видим… Вправду, обнажённые. День-то жаркий. Они лежат тесно, рядком, кто вверх, кто вниз лицом, четверо, две тетки, два дядьки. Растомленные, неподвижные, ленивые.
Закинули ноги друг на друга и лежат.
Мне внезапно делается жарко — так они лежат, таковой расплавленностью, раскаленностью дышит от них. А мы не дышим в кустах. Уже через чур продолжительно не дышим.
Воздушное пространство вырвется из меня на данный момент со свистом.
Наконец один дядька оживает и переворачивается. Рукоплещет тетку по заду, звонко. «Отправился к линии!» — лениво говорит она, не пошевельнувшись. Опять все замирают. Второй мужик внезапно просыпается, садится и озирается очумело. Добывает карты, тасует.
И опять ложится.
Чья-то рука выдергивает меня из кустов. «Атас!» — слышу я запоздало. Физрук дает мне леща, и я спешу в лагерь изо всех сил. За спиной у меня ленивая ругань.
Мы не говорим о произошедшем до вечера. И только по окончании отбоя, оставшись в отечественной маленькой палате, в собственном тесном кругу, мы заводим разговор об этом. Генка тут же засыпает.
Он спит в прекрасной позе бегуна. Рвет во сне финишную ленту. Один из нас, самый старший и самый чувствительный и слезливый, кроме того вслух сообщил: «Как он красиво спит!» Мы говорим об этом и расходимся очень.
Любой из нас пытается превзойти другого в рассказах об этом. Мы начинаем обсуждать отечественных девочек с «данной» точки зрения. Мы используем все неприличные слова, какие конкретно знаем. Больше всех, думается, стараюсь я: у меня старший брат, и я знаю больше вторых. Внезапно раскрывается дверь — и на пороге Генкина мама.
Выясняется, она в далеком прошлом уже слушает под дверьми. До сих пор я краснею при воспоминании.
Она говорит, как это чудовищно, и, думается, плачет, она говорит: это так страшно, что она не сможет кроме того сообщить отечественным родителям, она не сообщит, но мы должны поклясться, что ни при каких обстоятельствах… Мы клянемся. Она уходит. Мы еще долго лежим, бессонные, немногословные, стёртые с лица земли. «Какое счастье! — говорит внезапно самый чувствительный из нас.
Какое счастье, что Генка дремал и молчал исходя из этого!» Всегда-то данный самый чувствительный сообщит то, о чем все поразмыслили и никто не сообщил бы вслух. «Какое счастье…» — думаю я, засыпая.
В то время, когда я вспоминаю Генку, Генриха, Генриха Семеновича, меня постоянно поражает эта его свойство уйти, внезапно скрыться, провалиться сквозь землю, уснуть и не принимать участие, сознательно либо бессознательно, в том и в том месте, где он может себя уронить, сам ли, посредством ли вторых — проиграть. Он замолкает, в случае если ему внезапно нечего сообщить, в то время, когда все еще говорят, не смотря на то, что им также нечего, уходит, в то время, когда все еще сидят, не смотря на то, что в далеком прошлом уже желают уйти.
Приятели дисквалифицировали его в преферансе, по причине того, что его неизменно неожиданно позовут по делу, в то время, когда он начинает проигрывать либо партия затягивается и нарушает его режим. Девушки его обожают, по причине того, что при выяснениях и серьёзных объяснениях он внезапно поднимается и без звучно уходит и не приходит, пока она сама не придет.
Приятели за него держатся, по причине того, что он внезапно замолкает в самой накаленной точке спора, где еще неизвестно кто — кого, где самый накал борьбы, замолкает и наблюдает вдаль, отвлеченный, замерший, как бы общающийся с чем-то высшим. Имеется тут некоторый фокус, которым я так и не овладел, не смотря на то, что, видит Всевышний, безнравствен — желал бы им так же пользоваться. Я-то не остановлюсь, пока не проиграю все — в карты, с любимой, с втором. Я человек верный…
Ясно, что в пионерлагере Генку обожали самые прекрасные девочки. У него уже второе лето был роман с Галей Ш., весьма милой, рано развившейся, уже девушкой, в то время, когда к нам приехала Рена К. — моя первая любовь. Я наблюдал на нее с далека восхищенными глазами, крался по пятам — она же меня соответственно не подмечала.
Так я обожал ее, пламенно, с далека, и внезапно заметил — эта сценка до сих пор перед моими глазами, — как в стороне от дорожки, между соснами играются в пинг-понг без сетки Генка с Рекой К. Цок! стукается мячик о Генкину ракетку, цок! — о ракетку Рены. Цок да цок, цок да цок… И такая счастье и радость на ее лице, цок-цок, при каждом ударе, и без того ловок, легок и точен Генка, цок-цок, при каждом ударе, и без того они переговариваются, цок-цок, слов не слышу, сердце во мне опускается — цок! не поднимается. И Галя Ш. в стороне, совсем, цок-цок, так уж бесстрастная. Наблюдай — цок — во все глаза — цок — больше ни на что — цок — не сохраняй надежду…
Да и как не обожать для того чтобы?
СХВАТКА У ЛОГОВА Сатаны
Из журнального очерка
Человек стоял, опираясь на палку, в наброшенном на плечи широкополом плаще, чем-то похожий на громадную серую птицу, опустившую сломанное в битве крыло. Нет, не было безнадежности в данной позе. Скорее — терпеливое и умное ожидание.
Придет-де срок, и я еще взмахну крылом и встану в небо.
Человек протянул нам левую свободную руку и назвал себя:
— Генрих.
Так мы в первый раз встретились с вулканологом Генрихом Ш.
Позже мы большое количество разговаривали с ним — и у вечернего догорающего костра, и ночью в палатке, по горло зашнуровавшись в спальные мешки, и утром, умываясь ледяной водой ручья. Но о чем бы ни шел разговор, Генрих все время посматривал в сторону дымящейся вершины вулкана. Мы знали: в том месте, на вершине, проходил передний край фронта науки, в том месте были его приятели — разведчики.
Ему весьма хотелось в том направлении. Так как он также принадлежал переднему краю. Самому переднему.
Вот хотя бы лишь одна страничка его исследователя — жизни и жизни учёного, жизни храброго человека, комсомольца шестидесятых годов…
Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Второй ожидал, пока его товарищ не обнаружил какое-то надёжное место под укрытием гора.
Лавовый поток был всего в двух метрах от них. Сверху его покрывала серая, дымящаяся, остывающая корка. И внезапно случилось неожиданное, огненная глыба упала на эту непрочную корку.
Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока.
На вулканологов поползла лава. Нужно было уходить. Куда?
Толя посмотрел назад, и в тот же момент мощный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, — встревоженное лицо Генриха Ш. и летящий на него огненно-красный камень…
Но в этот самый момент он остался жив, мой необычный приятель. Он пришел в себя на восьмые дни — и остался жив.
Генрих может ездить на мотоцикле, охотиться, водить автомобиль. Не следует перечислять. Он может все то, чего не могу я. Вот прилечу и спрошу его: «Возможно, тебе весьма жалко, что ты не можешь летать на самолете?» «Отчего же не могу, — сообщит он, — могу», — и продемонстрирует мне фотографию, где он за штурвалом самолета.
Я кивну, но все равно не поверю. А через пара дней представится случай убедиться в том, что я зря ему не поверил, по причине того, что мы полетим в облет над вулканами на «аннушке» и я вправду встречусь с ним за штурвалом… И я осознаю, как это было довольно глупо с моей стороны
высказать предположение, что Генрих не может водить самолет, — это нереально, Генрих бы легко этого не вынес. Это будет позже, в то время, когда я уже прилечу к нему, — пока-то я все еще не прилетел, но, поскольку в то время, когда садишься писать, все, о чем пишешь, уже в прошлом: и мой прилет к нему, и мой отлет от него к себе, — так что нечайно смещаются времена и я забегаю вперед.
Мы будем лететь на высоте 4000 метров, и потому, что зима, декабрь, а в брюхе у самолета открытый люк для фотосъемки, и летать нам продолжительно, кружить над каждым вулканом, — то мы замерзнем. Я в первый раз замечу вулканы — сходу большое количество, они все белые, чистенькие, ровные, потому, что зима и по причине того, что они вовсе не извергаются каждую секунду, а ведут себя весьма нормально. Будет сперва любопытно, в особенности в то время, когда мы будем кружить над кратером известного вулкана так низко, что я буду заглядывать в его дымящееся нутро, — а позже все покажется уже однообразным и изнурительным непрофессионалу, будет неясно, для чего это они часами кружат над одним и тем же местом и для чего Генрих так нервничает и горячится — было бы почему… И наконец я замечу мелкую и нечистую гору, похожую на прыщ в данной белизне, и это будет вулкан действующий, мы будем летать и летать около в ожидании, в то время, когда он выстрелит, а он все не будет выстреливать.
проза и Стихи
С нами будет лететь один весьма хороший поэт, отечественный с Генрихом приятель, также ленинградец. С утра он будет болен по окончании вчерашнего и еле приползет на аэропорт. В самолете его будет маять, и он сразу же уснет и проспит все вулканы, каковые я замечу.
Но в то время, когда данный мелкий нечистый вулкан наконец соберется выстрелить, поэт внезапно придёт в сознание в собственном углу, поведет очумелыми очами, спросит: «Где я?» — с привычным удивлением скоро сообразит, что с ним произошло, выпрыгнет из собственного угла, выглянет в окно и именно заметит, как данный вулканчик сделал наконец собственный дело — ничего особого, над ним маленький тёмный столб. А Генрих сообщит: «Смотрите, какой сильный взрыв!» Поэт не увеличиться наблюдать в окно, а согнется над собственной книжечкой и через 60 секунд прочтет следующий стих:
ПРОЛЕТАЯ В САМОЛЕТИКЕ НАД ВУЛКАНАМИ[1]
Подо мною,
чуть пониже,
дышит тепленький вулкан…
Знал о нем
при помощи книжек:
дескать, само собой разумеется, гигант,
дует,
плюет,
посыпает,
лава льется на поля…
…В общем, не хорошо поступает
с нами
бабушка Почва…
…А вулкан-то, он потешный,
кудри вьются на голове…
И разинут рот кромешный
в неосознанной тоске.
Вот он выбросил мало
камня, огня и дыма…
Так сообщить — благодарю Всевышнему,
поприветствовал меня!
Прочтет он данный славный стих, и, больше ни разу не посмотрев в окно, опять свернется в собственном углу, и проспит до самой посадки, и высадится, юный и свежий, и начнёт думать о вечере. Я же так и проторчу у окна, но больше ничего для того чтобы занимательного не замечу. Замерзну лишь совсем.
И позавидую приятелю-поэту, как это у него все четко и совершенно верно получается: и выспался, и проснулся ровно, в то время, когда было необходимо, и все заметил самое занимательное, и стих славный написал, и опять уснул. А я-то, что я об этом напишу?
Неизвестно. Как я мерз? Как было скучно?
Да, прозаику куда тяжелее… В общем, вулканы разочаруют меня.
Вечер, действительно, будет приятный. Кривой мужик встретит нас на аэропорте и доставит в санях на базу Академии наук. Данный теплый древесный двухэтажный ветхий дом, скрипучий и негромкий, с библиотекой, с бильярдом, с ковровыми дорожками на лестницах, подействует на мое очевидное воображение — я выгляну в окно и замечу вправду прекрасную картину: как из-за огромной сопки, высящейся над поселком, начнет восходить луна и подсвечивать дым, что валит из данной трубы и днем и ночью.
Я почувствую себя на большом растоянии от дома, мне станет тепло, безрадостно и приятно и захочется написать некоторый рассказ про таковой вот негромкий дом, где трудятся всё весьма немногословные и чистые люди, и одна женщина, весьма мне красивая, безмолвно обожает одного парня, пара напоминающего меня, и целый данный рассказ будет чем-то пропитан и пронизан, каким-то таким неизвестно-лирическим эмоцией, в нем будет особенный воздушное пространство… В общем, взволнуюсь очень по поводу рассказа, что в здравом уме ни при каких обстоятельствах писать не буду и не напишу. И, по всей видимости, у всех будет что-то такое на уме.
По крайней мере, поэт также будет нервничать и не успокоится, пока мы все не отправимся в ресторан «Сопка». В том месте не считая нас будет лишь одна подвыпившая мужская компания, из которой будет выделяться один громадный человек с добрейшим детским лицом и один мелкий вредный горбун с гармошкой.
Они будут выпивать, как и мы, спирт, и горбун по окончании каждой стопки будет что-нибудь играться, и потому, что он может лишь «Гимн и» Подмосковные вечера СССР, то как раз их он и будет играться вперемежку. И гигант будет наблюдать на горбуна с восторгом.
Так мы негромко упьемся.
«Нужно было тебе летом ко мне приехать, — говорит Генрих, — что — зима…» Мы трясем друг другу руки. «Я еще приеду, в обязательном порядке приеду, — говорю я. Летом…» Неизменно я обещаю приехать еще раз — и не приезжаю. И начинает мне сейчас казаться, как приезжаю куда-нибудь, что больше мне тут не побывать… И безрадостно делается, и расставание — прежде встречи…
И это будет прекрасно, но лишь в то время, когда это еще будет1. А тут торчи в аэропорту, и выпить не с кем…
Моя зависть
Он первенствовали последняя моя зависть, самый непохожий на меня человек.
…У него был жук-носорог. У меня жука-носорога не было. У него был самый громадный жук с самым громадным рогом, жук-чемпион, жук чемпиона. Ему было мало, что у него жук, — так он еще всем сказал, что ему привез его из Афганистана папа-летчик.
Не смотря на то, что и у нас, в Ташкенте, таких жуков предостаточно.
Лишь у меня его не было. Мне бы хоть самочку безрогую, как у идиотика Ромы. Но у меня и самочки безрогой также не было.
Ему он был и не нужен, жук-носорог, он ничего в нем не смыслил.
Легко раз у всех жук, то и у него жук, причем самый большой. «Он у меня любого жука забодает, одного как поддел — тот у меня кверху тормашками и вон в том направлении улетел», — показывал он на дальний арык, за которым кончалась территория отечественного садика. «Лжёшь…» сказал я в этот самый момент же ему верил. Данный бесчувственный человек не осознавал, каким чудесным образом он обладал, он просто — владел, милостиво разрешая мне кормить его моими крошками. «Он ест лишь белые, — сказал он наряду с этим либо кроме того: — Он ест лишь из моих рук», — и забирал у меня крошки.
Я грезил похитить у него жука, но не знал, как это делается. Я похитил наконец, но не жука, а иголки-буры у отечественной хозяйки, зубной врачихи. Они напоминали холодное оружие лилипутов, палицы либо булавы, какие конкретно я видел на картине, и весьма нравились мне.
Хозяйка, затворив ставни от жары, ходила по безлюдному дому совсем обнажённая, в сумерках.
Она лениво носила собственный белевшее расплавленное тело из помещения в помещение и неохотно била мух либо проходила к буфету и, обнажённая, ела варенье прямо из банки. В то время, когда она отправилась имеется варенье, я и схватил из белой ванночки горсть иголок и, зажав их в кулаке с неоправданной силой, с ухающим сердцем выскочил на ослепительный свет.
Я обменял иголки на жука. Он был МОЙ, коричневый, полированный, с неординарным рогом. Я утаил одну иголку и положил ее и жука в коробку. «Это твоя палица», — сообщил я ему.
Я был так радостен, что уже как бы страдал от неспособности эмоций ко все более сильному выражению. Вечером кража обнаружилась, и был скандал. Утром я выпустил жука, не знаю, случайно либо специально.
А у Генки был уже новый жук, кроме того больше прошлого.
Я, может, и не помню этого. А не забываю громадную цементную чашку недействующего фонтана и выбитую широкую площадку около — все это весьма сухое и пропитанное солнцем, перенасыщенное. А мы сидим на краю фонтана свесив ноги, и Генка приоткрывает коробку с жуком… да и то чувство томящего восторга, какого именно с таковой силой мне уже не волноваться по окончании.
Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней сохранился только один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» «Летает!» — и мы все машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» — увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый!» — говорит воспитательница. И обидный хохот до сих пор в моих ушах… Воспитательница растолковывает следующую игру.
Она запрячет предмет на видное место, а мы будем его искать.
А кто отыщет, подойдет к воспитательнице и негромко сообщит ей на ушко, где он заметил данный предмет. И вот все разбредаются по площадке в отыскивании. Как мне нужно найти данный предмет первым! Выбраться из позора и моего падения. Но первый, как неизменно, Генка.
Он подходит принципиально важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они на большом растоянии от меня, но я слышу, словно бы мне звучно шепчут в ухо. «Молодец, молодец». Я кроме того забываю искать и вспоминаю об этом, в то время, когда еще сходу двое подбегают к воспитательнице и шепчут.
Я кидаюсь искать. Я обшариваю любой сантиметр почвы. Хотя бы одним из первых, хотя бы в первой половине!
А они все стремительнее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас чуть трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в неинтересном и равнодушном отчаянии.
Парни, уже отыскавшие, скучились около воспитательницы и нетерпеливо переминаются — нужно затевать следующую игру, а мы все копаемся.
Предмета же нет как нет. Я не имел возможности его не заметить, в сотый раз я контролирую себя, рассматривая до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не в противном случае. Все, к примеру, видят предмет, а я на его месте — обнажённую почву. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть окончательно. Я поднимаю голову от почвы — и внезапно вижу. Открыто, у всех на виду, на сломанном волейбольном столбе, лежит данный предмет.
Нужно лишь поднять голову.
Восхищение ослепляет меня. «Вот он!!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, наблюдают на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты, — неуважительно говорит воспитательница, — так как нужно на ушко! Ты лишь о себе поразмыслил, а о них, о Кире и Роме, не поразмыслил, сломал им игру».
И в случае если я вынес и это и выжил, то, разумеется, погибну естественной смертью и в глубокой старости.
…У нас через чур долгий мертвый час. Это из-за азиатской жары. Не смотря на то, что мы, по правде, ее не ощущаем.
Но так как нужно же разрешить отдохнуть и воспитателям, на такой-то жаре. Нам-то что. Генка, к примеру, разрешит подносить спички к своим пяткам — да и то ничего, не больно — такие пятки, как подметки, лишь горелым пахнет, а ему хоть бы что.
И спички воспитательница отобрала. Через чур долгий час и через чур мертвый — часа три в нем. Мы лежим под простынями, матрацы отечественные на полу, и воспитательница, как назло, не уходит, сидит — просматривает, за шепот — без компота. От тишины звенит в ушах, от скуки сводит в.
Генка говорит: «Марьстепанна, а Марьстепанна!» — «Ну чего тебе?» — «Возможно выйти?» — «Выходи», — недовольно говорит Марьстепанна. Всегда-то он первый додумается! — прямо завидно. Лежи тут, а он будет по двору гулять!
Злость берет. Все-то ему возможно — меня бы еще фиг выпустила. А Генка поднимается, серьёзный, и, дабы выйти, ему нужно через меня перешагнуть.
А он не перешагивает, а наступает собственной превосходной пяткой на мой обнажённый пузо, как на землю, и идет себе дальше. Больно мне не было ни капельки, но от скуки я все равно закричал. «Что такое?» — взвилась Марьстепанна. «Он мне на пузо наступил». — «Не на пузо, а на пузо». — «Он мне и на пузо также наступил». — «Так, — говорит Марьстепанна. — Возвратись’» — кричит она Генке. Генка возвращается, ненавидя меня взглядом. «Ложись», — говорит она ему.
Он ложится. «А ты поднимись», — говорит она мне. Я поднимаюсь. Ожидаю, не осознаю. «Поступи с ним так же, как он с тобой».
Я не осознаю. «Ну, наступи на него и перешагни!» — злится Марьстепанна.
Я наконец осознаю и выполняю все это с удовольствием. «Ну вот, сейчас вы квиты», — говорит Марьстепанна и садится в собственный угол просматривать. И мертвый данный час проскочил как живой в щипках и потайных пинках между Генкой и мной.
Так я в первый раз выяснил, что такое соломонов суд. Так я осознал, что основное также наступить на пузо и перешагнуть лежащего. С того времени мне ни при каких обстоятельствах не приходилось делать это столь чисто и открыто, а в большинстве случаев — в мыслях, по внутреннему счету, но перешагнул я многих.
С этим ли связано, что друзей остается меньше?
Мы сидим и поем. Это мне весьма нравится. Все поют — и я пою.
Так я наконец ощущаю себя в коллективе — это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». «НА-ВЕРХВЫ, товарищ…» Это мне не совсем ясно, но я ни при каких обстоятельствах не спрошу об этом — мне неудобно, по причине того, что я уверен, что остальные это отлично знают.
Я не задал вопрос об этом до этого дня. Я попадал в пропасть глупых и обидных положений, по причине того, что стыдился задавать вопросы разъяснений. Мне довольно часто стоило сложнейших и продолжительных умозаключений добраться до несложных, всем известных вещей.
Теперь-то я с легкостью не стыжусь задать вопрос что угодно: и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как кличут моего соседа справа, с которым я в далеком прошлом знаком, могу кроме того сообщить в магазине: «Нарежьте мне сыру не от корки, прошу вас, а от серединки…» Я сейчас могу задать вопрос что угодно.
Да, мы поем. И от первого же слова «НАВЕРХВЫ» — у меня начинаются спазмы в горле. До чего красиво мы поем!
Я увлекаюсь, я разеваю все шире собственный глупый рот, а в то время, когда мы доходим до «Неприятелю не сдается отечественный гордый „Варяг“…» — у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марьстепанна говорит: «Ты снова кричишь, не мешай всем петь».
Это неимеетвозможности относиться ко мне — я так замечательно пою, я посильнее всех ощущаю эту песню, я озираюсь возмущенно по сторонам: кто в том месте кричит и портит песню? Но это относится ко мне: «Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю».
Так я в первый раз почувствовал несоответствие, несовпадение внутреннего его выражения и чувства, столь сильное в жизни. И в то время, когда позже, в старших классах, мы заучивали, что слово и мысль — одно, что мыслит человек словами и что чем вернее идея, тем правильнее она выражена, — я заучивал урок со всеми, но мне было не ясно а также не очень приятно: я же думаю значительно лучше, чем могу сообщить об этом!
Так и до сих пор для меня самое громадное мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо совершенно верно, на том пределе, что чувствовал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются мои слова… Мне через чур прекрасно помнится, как мы пели хором, шестилетние, и как это было здорово, не смотря на то, что, может, это я и по сей день додумал. Но отчего же лишь одна и никакая вторая помещение стоит на данный момент перед моими глазами — чёрная, прохладная, и мы на лавках, в сумраке, по четырем ее стенкам, а в середине что-то громадное в белом халате машет руками, и лица не рассмотреть.
И ни при каких обстоятельствах мне не получалось спеть «Раскинулось море обширно», которое мы в большинстве случаев пели по окончании «Варяга», и самую мою любимую «В то время, когда я на почте», которая была третьей. По окончании «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего эмоции: как замечательно я имел возможность бы петь — и не пел. Тут бы в самый раз заявить, что рядом со мной снова треклятый Генка пел замечательно и был запевалой, но тут был бы уже неправда и пережим: у него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, по причине того, что в нем не было и эмоции песни — он просто открывал со всеми рот и не издавал тишина, и воспитательница сказала мне: «Вот у Гены также нет громадных свойств, но поет он с каждым разом все лучше — я его сейчас кроме того не слышу». Хоть петь Гена не умел…
Но, сейчас мне думается, что я должен быть благодарен природе за печальную в юные годы свойство не задавать вопросов и за эту несчастную неспособность выразиться в пении ли, в игре… И я никому не питаю зависть к.
Вот и пишу сейчас медлено. Пишу про отечественное военное детство. И как про него еще написать возможно — не подозреваю.
По причине того, что и без того и еще так — мне уже запрещено про него писать. К примеру, что оно ужасное и полно тяжелых переживаний… По причине того, что, по-любому, о нем все равно получается веселее, чем об простом а также занимательном ожидании самолета в Хабаровском, например, аэропорту. По причине того, что между армейским детством и тем, как я сижу в аэропорту, литератор, летящий на Ту-114 в страну вулканов по командировке толстого издания, — лежит двадцать лет.
И мое нахождение в этом аэропорту в тыщу раз грустнее моего военного детства.
Десятый и одиннадцатый подвиги Генриха[2]
Само собой разумеется, такая уж вещь очерк о хорошем храбрец — само собой получается стиль выспренний и нелепый, прекрасный. Но так как все правда в один момент. В футбол Генрих играется здорово и в кратер активного вулкана спускался много раз, мы его кличем не в серьез Вулканавт-1, и в пургу он попадал, и руки-ноги разламывал, попадал в лавины и камнепады.
Так что все действительно, что в газетах пишут, лишь стиль — неправда. Быть может, кроме того в стиле часть правды имеется, как раз в этом, в неестественном, высокомерном?
Вот как пишет сам Генрих о спуске в кратер, соответственно умнее, правильнее и скромнее. Скромность так как — также стиль.
Удивительные статьи:
- Венцель страпинский — обманщик поневоле?
- Роман о положительно-прекрасном человеке
- Xv. обязательства из договоров. проблема договорной свободы
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Двенадцатый и все будущие подвиги генриха
Вот я все торчу в аэропортах, злюсь, брюзжу и не живу толком. А вдруг я таковой прилечу, то что замечу и что напишу в следствии? Вот передо мной журналов…
-
Рассуждение о подвиге и поступке
Я бродил неверными шагами по залам аэровокзала. Вот уж — «не находил себе места»! Кресла, нарушив свои ряды, развернулись кто куда и разбрелись по залу и…
-
— Заказ необыкновенный. — Врач Вагнер старался сказать как возможно степеннее. — Как я осознаю, мы первое предприятие, к которому обращаются прося…
-
Мысли на треке во время чистки дорожки
Да, случай свел меня с этими превосходными людьми, и я был в важном и очень поучительном мире… Что выделило этих людей из всех других, что сделало их…