КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСУ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
I. Русская литература XVIII в. в оценке русских критиков XIX — начала XX вв.
Литература XVIII века в общем курсе истории русской литературы занимает незначительное место. Но без тщательного изучения её нереально глубоко осознать и уяснить предстоящего развития литературного процесса. Справедливости для направляться заявить, что существует (и не только среди студентов) вывод о том, что литература этого периода — явление скучное, далёкое от современности и потому мало нужное.
Обстоятельство данной «неинтересности» курса разъясняется частично тем, что если сравнивать с литературой кожный покров века литературные монументы XVIII века мало изучены и найдены, частично своеобразным характером литературного материала. В действительности, современному читателю, привычному больше с этими примерами художественного мастерства, как Пушкин, Чехов, Толстой, Достоевский, Неприятный, тяжело принимать художественные тексты XVIII века.
Чтобы Вы заинтересовали себя этимкурсом, нужно, дабы Вы оценивали и разглядывали монументы литературы XVIII века, вооружась историческим способом изучения.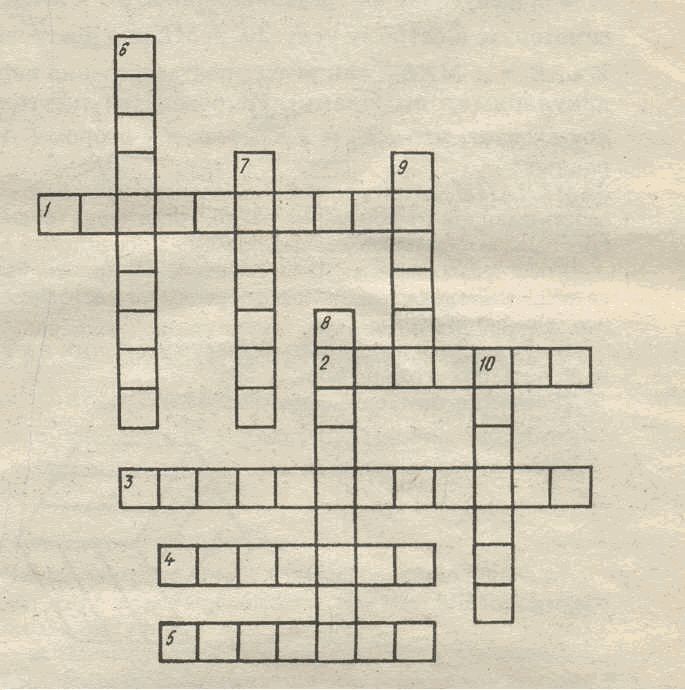 Лишь при условии, что Вас интересует совершенствования русской и процесс развития литературы в целом, что, увлекаясь, скажем, психотерапевтической школой Достоевского либо поэтической школой Пушкина, Вы интересуетесь истоками этих школ, их постепенным зарождением, лишь тогда литература XVIII века будет воображать для Вас интерес и художественную сокровище. В противном случае, если Вы данный курс станете изучать изолированно от всего литературного процесса и без того же разглядывать художественную сокровище данной литературы, то она представится Вам, в большинстве собственном, скучной, лишённой какой бы то ни было художественной ценности, и Вы с нетерпением начнёте ожидать, в то время, когда кончится для Вас данный скучный курс и в то время, когда же будет «настоящая» литература— XIX век. Но если Вы овладеете историческим способом изучения — перед Вами откроются совсем литературы и новые качества XIX века, более Вам привычной и близкой, и своеобразие литературного творчества в XVIII в.
Лишь при условии, что Вас интересует совершенствования русской и процесс развития литературы в целом, что, увлекаясь, скажем, психотерапевтической школой Достоевского либо поэтической школой Пушкина, Вы интересуетесь истоками этих школ, их постепенным зарождением, лишь тогда литература XVIII века будет воображать для Вас интерес и художественную сокровище. В противном случае, если Вы данный курс станете изучать изолированно от всего литературного процесса и без того же разглядывать художественную сокровище данной литературы, то она представится Вам, в большинстве собственном, скучной, лишённой какой бы то ни было художественной ценности, и Вы с нетерпением начнёте ожидать, в то время, когда кончится для Вас данный скучный курс и в то время, когда же будет «настоящая» литература— XIX век. Но если Вы овладеете историческим способом изучения — перед Вами откроются совсем литературы и новые качества XIX века, более Вам привычной и близкой, и своеобразие литературного творчества в XVIII в.
Итак, что же собою воображает литература XVIII века в общем курсе истории русской литературы? Как обособленная часть литературоведения она сложилась ещё в середине позапрошлого столетия (во второй половине 30-ых годов девятнадцатого века показался первый очерк русской словесности XVIII века Н. Сгрекалова). Но в независимую научную дисциплину история литературы XVIII века оформилась лишь в двадцатом веке.
Не вдаваясь детально в литературную историографию, скажем лишь о самых больших её вехах, об главных положениях в оценке литературного процесса XVIII века В. Белинским. А. Герценом. Н. Чернышевским, Н. Добролюбовым и Д. Плехановым, дабы после этого перейти к состоянию данной науки на данный момент.
Юный Белинский под влиянием статей декабристов, Пушкина, посвящённых литературе XVIII в., изучая новые материалы, в частности издание в 30-х годах произведений Фонвизина, Державина, Кантемира и Тредиаковского, показал интерес к данной литературе в ряде собственных статей. Отношение Белинского к русской литературе XVIII века не было единым и, последовательным. Белинский начал оценку литературы XVIII века с её отрицания (в ст. «Литературные мечтания» в 1834 г.).
Но пройдя разные этапы «эстетического» развенчания авторитетов допушкинского периода, Белинский неспешно пришёл к признанию прогрессивно-исторической роли литературы XVIII в. Разглядывая народное творчество как «живое свидетельство нескончаемой силы духа» народа и противопоставляя ему художественную литературу, Белинский сначала думал, что «русская литература была не плодом развития национального духа, а плодом реформы». В 1843 г. Белинский снова касается этого «неестественного» происхождения русской литературы.
Он пишет: «Русская литература имеется не туземное, а пересадное растение…» И потом: «Одни растения, будучи перенесены в новый климат и пересажены в новую землю, сохраняют собственный прошлый вид и собственные прошлые качества; другие изменяются в том и втором, по влиянию на них новой почвы и нового климата». 11ри этом русскую литературу он сравнивает с растениями второго рода.
Эгим Белинский чуть не в первый раз поднимает вопрос об исторически определяемом отношении между «пересадной» русской и литературой землёй. Он показывает, что история русской литературы «пребывает в постоянном рвении отрешиться от результатов неестественной пересадки, забрать корни в новой земле и укрепиться её питательными соками». И Белинский для этого выясняет взаимоотношение новой литературы и народного творчества.
Под этим углом зрения он переосмысливает литературный процесс XVIII в. и определяет истоки реалистического мастерства XIX в. (в частности, «натуральной школы»), «Натуральная школа», согласно его точке зрения, результат всего предшествующего развития русской литературы, которая «началась натурализмом». Как пример он приводит сатирика Кантемира, что, не обращая внимания на следование древним и западным примерам, остался уникальным, по причине того, что писал с натуры.
В лице Кантемира, согласно его точке зрения, русская поэзия нашла рвение к действительности, к судьбе, как она имеется, однообразие сатирического жанра, необработанность и грубость языка не разрешили ему стать примером русской поэзии. Это выпало на долю Ломоносова, в лице которого литература нашла рвение к идеалу.
Оба эти направления создали «два русла», о которых он пишет. «Исходя из этого мы вправе сообщить, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале собственном потекла, в случае если возможно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, каковые чем потом, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь по окончании снова на два, , пока в наши дни не составили одного^ целого, натуральную школу». не сильный местом во взорах Белинского на литературу XVIII в. было признание им литературы как «привозного растения».
При тогдашнем состоянии истории русской литературы он не видел органической связи древнерусской литературы и литературы XVIII века. Для нас принципиально важно, как, в итоге, Белинский осознавал философию истории русской литературы XVIII века: «Литература отечественная, — писал он, — была плодом сознательной мысли, явилась как новшество, началась подражательностью.
Но она не остановилась на этом, а всегда стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это рвение, ознаменованное заметными и постоянными удачами, и истории отечественной литературы».
Белинский противопоставил господствовавшему тогда тезису об ученическом, подражательном характере русской литературы XVIII в. идея о постоянном рвении литературы к сближении с судьбой, к самобытности, указал на народность её. В середине позапрошлого столетия к изучению литературы XVIII в. обратились А. Герцен, Н. Чернышевский и Н. Добролюбов.
Историко-литературные взоры Герцена, например, по отношению к XVIII веку, были весьма независимы и намного опережали развитие науки о литературе XVIII в. Особенно серьёзной в этом отношении есть работа «О развигии революционных идей в Российской Федерации». Наряду с этим направляться сходу оговорить тот факт, что Герцен, в противоположность, к примеру, Добролюбову и Чернышевскому, не был стеснён цензурой. Свои работы, и в частности эту, он издавал за рубежом.
Герцен высоко оценивал роль 11етра, считая его настоящим воплощением «революционного начала, скрытого в русском народе». Но, одновременно с этим. Герцен отмечал антинародный темперамент исторической личности Петра.
Он писал: «…то было начало молодого, деятельного, не опытного узды насилия, равняется готового и на великие дела, и на великие правонарушения». Необычна и его оценка Екатерины II.
С одной стороны, Екатерина, согласно его точке зрения, «принесла с собою в императорский дворец известное изящество, хороший вкус и светскость, чего не было до неё и что оказало благотворное влияние на высшие слои общества», а с другой, «Екатерина II не знала народа и причинила ему лишь зло: подлинным её народом было дворянство, и она превосходно знала эту среду». Две силы — правительство и сознательное, политически мыслящее дворянство — видит Герцен и в литературном ходе XVIII века.
Как и Белинский, он не придавал особенного значения древнерусской литературе. Интерес его направлен, г лавным образом, к «новорусской» литературе, т. е. литературе XVIII начала XIX вв.
Тут он отмечает два этапа, предел между которыми — вступление на престол Екатерины II. «В продолжение XVIII века — писал Герцен, — новорусская литература выработала тот звучный, богатый язык, которым мы владеем сейчас. — язык эластичный и могучий, талантливый высказывать и самые отвлечённые идеи германской метафизики, и лёгкую, сверкающую игру французского остроумия». Совсем сформулировал собственные взоры на русскую литературу XVIII в. Герцен в кожный покров главе книги, озаглавленной «Пётр I»: «…тот период, что мы обозревали. — писал он, — только отрочество русской и цивилизации литературы.
Наука процветала ещё под сенью трона, а поэты прославляли собственных царей, не будучи их рабами. Революционных идей практически не виделось, — великой революционной идеей всё ещё была реформа Петра. Но мысль и власть, гуманное слово и императорские указы, цивилизация и самодержавие не могли больше идти рядом.
Их альянс кроме того в XVIII столетии необычен».
Кроме того при несомненной переоценке исторического значения Петра, его неспециализированная концепция на литературу XVIII в. явилась без сомнений большим вкладом в развитие науки об истории литературы XVIII века. Суждения Н. Г. Чернышевского (в частности, в рецензии на «Мелочи из запаса моей памяти» М. Дмитриева (1854), заключаются в том, что критик не признаёт (как, но, и в более ранних рецензиях) публичного влияния русской литературы XVIII в. «История переводной литературы, — писал он, — к сожалению воображающая на данный момент довольно много затруднений по необработанности материалов, была бы чуть ли не занимательнее истории уникальной литературы ветхого времени».
Но, наряду с этим он считал в то же самое время, что «история русской уникальной литературы до Пушкина и Жуковского обязана занимать вместе с чёртом развития переводной литературы очень серьёзное место в истории русского просвещения по большому счету, в истории публичных понятий и нравов». При оценке деятельности, например, писателей XVIII в. (речь заходит о его работе «Очерки гоголевского периода…») внимание Чернышевского завлекает их патриотизм, их публичные устремления, степень действия на литературу в публично-политическом направлении, но в целом он отказывает литературе XVIII в. «как служительницы судьбы» и в этом содержится уязвимое место и непоследовательность историко-литературной концепции Чернышевского.
Обстоятельство этого заключена, в основном, в главной задаче, которую ставил Чернышевский в «Очерках гоголевского периода…» — в частности: в том. дабы обосновать. раскрыть и доказать непригодность и социальную недостаточность иных направлений и литературных школ, не считая натуральной. Борясь с романтизмом как со школой враждебной «гоголевскому направлению», Чернышевский заключал в одни скобки с ним и классицизм, т е., практически, литературный материал XVIII в. Но так как полностьк отрицать деятельность таких писателей, как Кантемир, Ломоносов, Фонвизин, Державин Карамзин, Новиков, было нереально, то их деятельность Чернышевский рассматрива как «отрывочные, исчезающие бесследно эпизодические проявления», каковые представ ляют «лишь порывы к осуществлению себя, но ещё не настоящее существование».
Н. Добролюбов развил взоры Чернышевского и дополнил их собственными воззрениями. Статьи Добролюбова о русской литературе XVIII столетия говорят о глубоком знании им изучаемого материала, о наличии у автора историческою чутья, умения; видеть, собирать и осмыслять наиболее значимые для понимания литературного процесса; эти.
Добролюбов, за Белинским высоко ценя народное творчество, противопоставлял ему «книжную словесность», которая, с его точки зрения, «как чуждая народной жизни… имела возможность лишь по-своему искажать то, что было живого в народе, и не в состоянии была ни проникнуться подлинными её потребностями ни спуститься до степени её понимания). Эта «книжная словесность» ширилась и росла по мере того, как народная поэзия «теряла собственное значение, слабела и глохла», но «сначала, не осознав народного характера, она стала совсем чуждою народности русской и заключилась в тесной сфере собственных схоластических определений».
Исторической же роли Петра Добролюбов, за собственными предшественниками, придаёт значение . Не обращая внимания на столь безжалостную чёрта. данную Добролюбовым литературе XVIII века, его заслуга содержится в том, что он на широком фактическом материале раскрыл публично-политический суть лучших литературных произведений этого столетия, нашёл тесную сообщение их с тогдашней современностью, рвение авторов откликаться на потребности передовых слоев общества.
Формирование литературоведения XX в. (в частости по интересующей нас теме) проходило в непростых и тяжёлых условиях. Научное наследие до той поры складывалось из отдельных работ, не было систематизации текстов. Взоры Белинского, Герцена, Добролюбова и Чернышевского не изучались в должной мере.
Исходя из этого столь сильна была в 20-е годы тяга к наследию Г. Плеханова, известный марксиста, что посвятил литературе XVIII века особые работы.
Значение трудов Плеханова, непременно, огромно. Ему в собственности строгое научное обоснование материалистического взора на историю. Но у него были и идеи не совершенно верно сформулированные и просто ошибочные.
Так, Плеханов недооценивал народные демократические перемещения, каковые, согласно его точке зрения, имели реакционный харакгер. Единственное русское сословие, наблюдавшее не назад, а вперед, как он утверждал, было в восемнадцатом веке дворянство. Сводя историю русской публичной мысли в восемнадцатом веке к деятельности русской, по большей части дворянской, интеллигенции, Плеханов практически подменяет её историей разочарования «просветителей» в полной монархии.
Излагая перемещение публичной мысли в Российской Федерации, Плеханов ещё дальше отходит от материалистического объяснения явлений социального порядка: преувеличивая роль внешних явлений, он совсем игнорирует настоящую социальную обстановку, разные формы классовой борьбы. Положение крепостного крестьянства, его неоднократные восстания, практически не прекращавшиеся поджоги помещичьих убийства и усадеб их обладателей, судебные процессы против жестоких помещиков и крепостных он освещает мельком. Но, характеристики и отдельные частные наблюдения его честны, исходя из этого работы его по литературе XVIII столетия рекомендуются для изучения.
В двадцатом веке изучение литературы XVIII века прошло громадный путь, преодолевая разного рода извращения в виде культурно-исторической и филологической школ, формализма, пошлого социологизма.
II. Главные неприятности прочтения русской литературы в современной науке
XVIII век— не только броская веха в судьбе России, в то время, когда она деятельно открылась Европе и европейскому стилю судьбы, но и опробование её на прочность, самобытность. Нет ни одной культуры, которая явилась бы сама по себе, вне чуждых влияний. Но уникальной возможно названа лишь та, которая не подчиняется чужим действиям, а перерабатывает, осмысливает чужое в контексте собственного.
Как раз таковой и была русская литература и культура.
В начале XIX века, в то время, когда очередной раз возобновился спор о «собственном» и «чужом», национальном и европейском в русской культуре, Н.М. Карамзин в «Записке о старой и новой истории» акцентировал идея о том. что «дух народный образовывает нравственное имущество» любой страны. Согласно точки зрения писателя — это «не что иное, как уважение к собственному народному преимуществу».
Неприятность, поставленная Карамзиным, актуальна всегда.
Каждая культура, любой живописец не начинает на голом месте. И без глубокой связи с истоками народной судьбе, «земли», с духовными сокровищами прошлых поколений, живописец не может сообщить собственное, «новое» слово.
Сокровище литературы в её духовном, нравственном начале, в её связи с историей, судьбой народа, в её способности глубоко и правильно изображать настоящее и угадывать будущее.
Неприятность поисков национальных истоков русской культуры актуальна и своевременна. Где, в то время, когда и в чём проявляется «привязанность к нашему особому» (Н.М. Карамзин) и как это «особое, «собственное» сочеталось с чужим — вот вопросы, тревожившие и волнующие русскую публичную идея.
Как мы знаем, что татаро-монгольское иго — сопровождалось смертью славян, их культуры, и до сих пор ассоциируется у нас с морем крови, грабежами и пожарищами. Но продолжительное время, а возможно и до сих пор. и отечественный язык, и быт, и отечественное народное творчество несёт в себе черты той Азии, которая разрешила сообщить Л. Блоку: «Да— скифы мы, да — азиаты мы, с раскосыми и жадными очами».
А приобщение и крещение Руси её к христианской культуре сопровождалось замечательным сотрудничеством с «землёй», сближением и противостоянием с ней, что и выяснило в конечном счете неповторимое своеобразие «собственного». факты и Те свидетельства, которыми располагает наука (очерёдность крещения Руси по отношению к вторым славянским народам, христианский «фон», потеря христианства на Востоке и пр.) дают представления о отечественной самобытности при усвоении «чужого».
Входя в сознание русского человека, христианская культура была очень сильно подвержена влиянию старой, языческой культуры. Имеется догадка о том, что в отечественной дохристианской культуре существовали такие понятия, как «всевышний», «святой», «вера», «эдем», «дух», «душа», «грех», «закон» (о. Трубачёв).
Это разрешает сказать не только о том, что они были забраны в обиход новой, христианской культу- рой, но и о богатом и глубоком слое национального основания, на котором было воздвигнуто строение византийской культуры. А изменение слова «христианин» (крестьянин) на национальной по^ве может разъяснить большое количество «доселе гадательного» (А.Н. Радищев) в отечественной культуре, как да и то, что само понятие и идея святости слова «святой» уходящее язычество передало христианству.
Учёные (о.
Трубачёв) справедтиво полагают, чго духовной культуре древних славян была чужда мрачная мысль посмертного возмездия (слово «эдем» у славян было до христианства, а вот слова «преисподняя» не было). Вот из-за чего понятен в этом свете делается феномен громадной святости а также весёлости отечественного православного христианства, русской христианской архитектуры, зодчества по сравнению, к примеру, с католичеством Западной Европы и её храмами.
Как мы знаем, что бытование и распространение книги в Киевской Руси по окончании введения христианства фаю неоспоримый. Но вследствие этого нельзя игнорировать и другого факта — в Киевской Руси, как и у остальных славян в дохристианский период существовали и употреблялись такие понятия, как «буква», «просматривать», «книга», «писать». А ведь это термины письменной культуры.
Всё это свидетельство того, чго при введении новой веры не только грубо истребляется старое, но весьма мудро, аккуратно использован прошлый религиозный лексикон. Все учёные единодушны в том, чго. во- первых, христианство в Киевской Руси первоначально не было принято единодушно, без осложнений, а. во-вторых, что православие с самого начало существовало в условиях конфронтации с мусульманским Востоком. Но случаев перехода русского населения из христианства в мусульманство не зафиксировано.
Эго нечайно наводит на размышление о том. что существовала некая определённость в обозначенном историей пути России. Так. принятие христианства па Руси показало как уважение « к собственному народному преимуществу» так и открытость «отзывчивость» чужому.
Отечественная старая вера не провалилась сквозь землю, но необычным образом трансформировалась в сознании русского человека, совместив Перуна с Ильёй Пророком, Велеса с Николаем и Власием, Багровую деву — зарницу с её целительными покровами с Пречистой девой Марией и её божественными покровами. Сама паша земля не отторгала чужого и полностью не отвергала собственное, а соединяла, совмещала их. Тут сказались свойства характера отечественного народа, примерившего собственное с чужим.
Вот из-за чего и до сих пор в народном сознании наровне с высокими примера ми христианского поведения остаются до сих пор языческие лешие в отечественных лесах и домовые в отечественных зданиях.
XVIII век так не был исключением в судьбе России. Это было очередное опробование, в то время, когда от определившихся, устоявшихся норм судьбы Российская Федерация, как образно сообщит Н.М. Карамзин, «через бурю и волны устремилась» к новым опробованиям — она повернулась и раскрылась навстречу западноевропейской цивилизации и начался новый путь — «идеальное присвоение обычаев европейских» (Н.М.
Карамзин). Путь данный был, как и неизменно в Российской Федерации сложным, противоречивым, кровавым, но отечественная «земля», как и прежде, мудро и неспешно отделила плевелы от зёрен, и зёрнышко к зёрнышку собирала сокровища чужой культуры. Перед замечательным потоком «чужого» общество, быстро расколовшееся социально, «дислоцировалось», выделив элиту (в первую очередь из дворянства) и выяснив ей высокую миссию «ученичества».
Солидная же часть русского общества его культура и крестьянство (народная культура) предельно локализовались, не предоставит шанс внедрения «чужого».
В. В. Сиповский по этому поводу в своё время увидел: «… уже до Петра совершился раскол русского общества не только в религиозном, но и в публичном и художественном миросознании. Народ остался со собственными сказками, песнями и былинами — интеллигенция увлеклась «новым» мастерством» (Сиповский, 124).
До сих пор нет единого мнения по вопросу о том, что собой воображала петровская европеизация дпя России: благо ли это было для неё или беда. Одни учёные (П.Н. Берков, Г.П. Макогоненко, И З. Серман и др.) видели и видят в реформах Петра возможность восстановления России.
Гак, П.А. Орлов полагал, что «преобразования совершённые им (Петром I) были позваны неотложными задачами, появившимися перед Русским страной в конце XVII — начале XVIII века (Орлов П.А., 7).
Другие же склонны реформы Петра оценивать скорее очень плохо. Так, прот. В.В.
Зеньковский — один из православных богословов русского зарубежья писал во второй половине 40-ых годов XX века: «Быстрота, с какой русские люди овладели наиболее значимыми результатами западной культуры, с какой они входят друг за другом на путь независимого творчества, — поразительна.
Но в данной быстроте было и второе: отрываясь от церковного уклада судьбы, русские люди попадают в безоговорочный плен Западу…» (прот. Зеньковский В.В., 84). Второй православный богослов, Г. Флоровский, думал, что Пётр повинен в том, что сознание русских людей первой половины XVI11 века «экстравертировано до надрыва.
Душа теряется, растеривается, растворяется в этом горячечном прибое внешних переживаний и впечатлений» (прот. Флоровский Г., 395). Современный учёный М.М.
Дунаев, создатель книжки «русская и Православие литература» (для семинариев духовных и студентов академий), ещё более категоричен: «XVIII век был для России временем очевидной культурной деградации», и «мастерство того времени не знает достижений, какими отмечены эры предшествующая и последующая» (Дунаев М.М..
I, 45). Подобные разночтения не столько выражение субъективных представлений, в то время, когда «какое количество голов, столько и точек зрения» (А. Кантемир), какое количество итог сложного, противоречивого времени финиша XVII— начала XVIII столетий.
Непременно, что мощность и сиюминутность культурного взрыва не давала тогда русским людям одуматься, «удерживать вниманье продолжительных дум» (А.С.
Пушкин). И однако XVIII век в истории русской судьбы сыграл решительную роль. Какую бы область судьбы не взять, — везде возможно заметить черты замечательного взрыва, будь то область материальная либо духовная.
бросче всего это просматривал столетия и человек — поэт и учёный М.В. Ломоносов, — видевший заслугу Петра в том, что он «Россию, варварством попранну, с собой возвысил до небес». Само собой разумеется в этих строчках часть субъективного взора (проблематичен вопрос о варварстве), но то, что эта оценка демонстрирует обстановку взрыва, — разумеется.
Историческая наука, наука о литературе накопила широкий материал о деятельности Петра I как творце яркой незаурядной личности. В случае если резюмировать целый данный материал, го перед нами предстаёт некоторый исторический сфинкс. В оценках Петра I сосуществуют взаимоисключающие факты друга и друг характеристики.
Как разобраться в них? Необходимы ли были такие жертвы миллионы людских судеб во имя великой идеи государственности? Была ли альтернатива избранному Петром пути для исторической судьбы
России? Эти и подобные им вопросы не только не случайны, — это великие исторические вопросы, актуальные и для настоящего, и для будущего России.
Спустя полтораста лет по окончании смерти Петра I стали известны воистину леденящие душу подробности убийства царевича Алексея, то, что не только целый процесс, индивидуальные допросы с пристрастием собственного сына, но и самый побег был подстроен самим Петром. Историк М.П. Погодин задаёт вопрос слушателям академии наук: «Какой же решение суда скажем мы Петру, по его делу с сыном…?».
И сам отвечает на него: «…мы говорим в академии Петром Великим основанной!… Город, в котором трудится полтораста лет эта академия, получил от него собственное наименование, и на всяком шагу, каждым камнем провозглашается тут, думается, его память, и каждой Невской волне слышится его имя. Нет, … язык отечественный неимеетвозможности поворотиться, чтобы сказать Петру Великому слово суда…».
Данный взор человека из глубины XIX столетия корреспондирует к самому Петру I и его позиции, в то время, когда он говорит сыну: «Ты обязан обожать всё, что помогает ко благу и чести отечества, не щадить трудов для неспециализированного блага, а вдруг рекомендации мои разнёс ветер, — я не признаю тебя моим сыном.». В этом другая нравственная норматива, другая историческая «правда», с позиций которой и рассматриваются эти факты. « За моё отечество, — признаётся Пётр в письме к сыну, — и людей моих я живота собственного не жалел и не жалею, как могу тебя непотребного пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, каковые я для людей народа собственного, не жалея здоровья собственного делаю».
Особенная роль среди петровских преобразований отводилась культурной реформе. Способы, каковые применял Пётр при внедрении «чужого», особенность его культурных реформаций так же приведут к недоумению либо кроме того осуждение. Так, Н.М.
Карамзин полагал, что необходимость внедрения нового была абсолютна, что «просвещение достохвально», но одновременно с этим «русская одежда, пища, борода», против которых так быстро и категорично выступал Пётр, «не мешали заведению школ». Автор видел в этом попрание народных обычаев и вычислял преступным. « Пускай сии обычаи, — полагал он, — конечно изменяются, но приписывать им Уставы имеется принуждение преступное и для Монарха Самодержавного».
Но последователи Петра, «птенцы» его «гнезда» так не считали. Феофан Прокопович, один из его страстных приверженцев, в «Правде воли монаршей» утверждал, что «может Монарх Правитель законно повелевать народу, не только, всё что к знатной пользе отечества собственного потребно, но и всё что ему не понравится…» Деяния монарха, согласно точки зрения Феофана, не должны быть неприятны здравому смыслу и воле Божьей.
Культура России второй половины XVIII века
Удивительные статьи:
- Неолитический период истории урала
- Глава 1. развязка и пролог. 2 страница
- Глава 10. мой день рождения. 3 страница
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
Тема 1. философия и мировоззрение. тексты и задания контрольной работы для студентов
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ФГОУ ВПО «ВЯТСКАЯ Национальная СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ ПОЛУЭКТОВА Е.В. ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИКУМ….
-
Судьбоносное значение коммунизма для россии
5.1 Сущность «хорошего» марксизма. В чем Бердяев видит главное внутреннее несоответствие (двойственность) марксистской теории? Сформулируйте правила…
-
В русской исторической науке появилось новое направление
В 20-х гг. XIX в. в русской исторической науке показалось новое направление. Оно было представлено трудами Михаила Трофимовича Каченовского (1775-1842)8…
-
Возможности трудоустройства для студентов и работа для студентов
Современные студенты пробуют отыскать работу еще задолго до окончания учебы, стремясь получить денежную самостоятельность и проверить собственные…





