Простор — категория национальная. Нужное условие осуществления нации. В то время, когда я наблюдаю на карту, на отечественную красного простыню, я чувствую пространство, огромное, но еще не чувствую простора.
И в случае если где-то в углу зажато пятнышко: болотцем — Эстония, корытцем — Армения, то какой же возможно заподозрить в том месте простор? Думается, поднимись в центр, крутанись на пятке и очертишь взглядом все пределы.
Да и как жить на подобном пятачке? Пожмешь плечами, имея столь немыслимые заплечные пространства.
И какое же удивление овладевает тобой, в то время, когда едешь по маленькой, с отечественной точки зрения, стране и час и второй, а ей все финиша и краю нет.
Оказывается, имеется горизонт, кругозор, и он ставит всему предел. Он и имеется мир нескончаемый. Имеется то, что человек может охватить одним взором и набраться воздуха глубоко, — Это родина и простор.
В противном случае, что за его пределами, — не очень-то и существует.
Два полярных впечатления обладают мной.
В Российской Федерации что-нибудь да заслонит взгляд. Елка, забор, столб — во что-нибудь да упрется взор. Кроме того в какой-то мере честным либо защитным думается: тяжко сознавать такое немыслимое пространство, в случае если иметь к тому же бескрайние просторы.
Я ехал в один раз по Западно-Сибирской низменности. Проснулся, посмотрел в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жует, плоско двигая челюстью.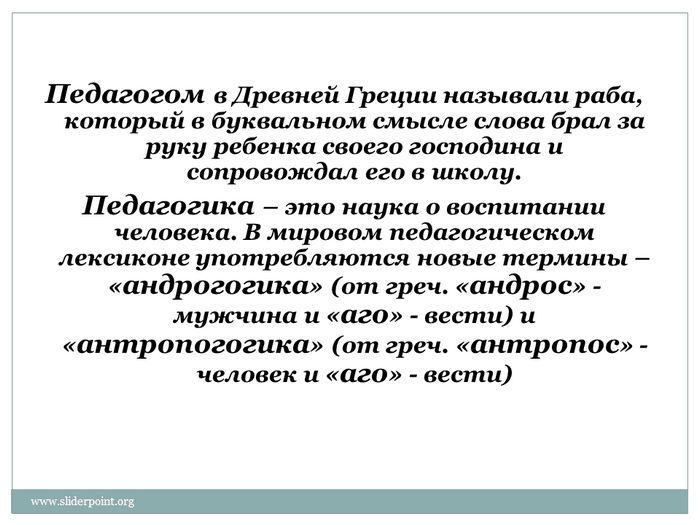
Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жует по колено.
Проснулся, на два дня — болото, корова. И это было уже не простор — кошмар.
И второе — арка Чаренца в Армении.
Отрог подступил к дороге, подвинул ее плечом вправо, дорога подалась в сторону, легко уступая, но тут и справа показалось кряжистое плечо и подтолкнуло дорогу влево, дорога стиснулась, сжалась, застряла, увязла в отрогах — горизонт провалился сквозь землю. И внезапно вырвалась, набралась воздуха — справа раздался неожиданный свет, словно бы провалилась гора, на миг что-то проголубело, просквозило далеко, и маленькая горка обидно опять все заслонила.
Но, она бы еще не все заслонила, что-то еще имело возможность синеть за ней краешком, если бы не необычное сооружение на вершине, скрывшее остаток вида. Оно смотрелось достаточно неуклюже и неуместно. «на данный момент мы это проскочим», — успел поразмыслить я, почему-то рассердившись на это препятствие взору. Но мы сильно свернули с шоссе и со скрежетом въехали на горку.
Арка на вершине приближалась и наконец заслонила собой все. Мы вышли.
Я недоуменно посмотрел на друзей: для чего стали? Чем превосходно это слоноватое строение?
— Арка Чаренца, — сообщили мне и без звучно пропустили вперед.
Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ожидали, какого-либо проявления. Ровным счетом ничего превосходного при всем жажде не обидеть друзей я в данной арке не нашёл. Меня подтолкнули в пояснице, кроме того как-то жестко.
Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.
Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то встало во мне и не опустилось.
Что-то выпорхнуло из меня и не возвратилось.
Это первенствовалчертеж творения. Линий было мало — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было.
Линия проводилась с уверенностью и окончательно. Исправлений быть не имело возможности. Легко второй линии быть не имело возможности.
Это была единственная, и она как раз и была совершена.
Все другое, думается мне, Всевышний творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли пресыщенной рукой. Кудрявая природа России — Господне барокко.
«Это — мир», — имел возможность бы сообщить я, если бы имел возможность.
Пыльно-зеленые волны тверди уходили вниз из-под ног моих и приводили к головокружению. Это не было головокружение страха, боязни высоты, это было головокружение полета. В этих спадающих валах была поступь великая и величественная.
Они спадали и голубели далеко, таяли в дымке простора, и в том месте, далеко, уже светло синий, так же совсем восходили, обозначая начало неба и край земли. Какое-то чёрное поднятие было справа, какое-то сизое пропадание слева, и я внезапно почувствовал, что стою с немного поднятым правым плечом, как бы повторяя наклон плеча невидимых весов, одна чаша которых была подо мною. «Это музыка сфер», — имел возможность бы отыскать в памяти я, если бы имел возможность.
Передо мной был неизвестный эффект пространства, полной утраты масштаба, малости и непонятной близости — и бесконечности. И моего собственного размера не существовало. Я имел возможность, казалось, трогать рукой и гладить эти родные мелкие бугры и мог находиться и поворачивать эту чашу в собственных руках и ощущать, как конечно и вероятно вылепить данный мир за одни сутки на гончарном круге. («Что такое мастер? — сообщил мне в один раз приятель. — Творение должно быть выше его рук. Он заберёт в руки глину — и она выпорхнет из рук его…»)
…И внезапно эта близость пропадала, — и мир подо мной становился столь нескончаем, глубок и необъятен, что я исчезал над ним и во мне рождалось чувство полета, парения над его бескрайними просторами. «Горний ангелов полет…»
— Видишь Масис? Масис видишь? — Я содрогнулся. Что тут возможно было заметить еще?
Приятель протягивал руку к краю света. — Вон видишь?
Чуть темнеет. Вот слева маленькая вершинка, она лучше видна. А справа уже громадная. — Приятели наперебой чертили в воздухе контур. — Видишь?
Он то исчезает, то снова виден.
Я напрягался да и то ли видел, то ли не видел. Я так как не знал, что именно мне нужно заметить.
— Вижу, вижу! — восторженно подтверждал я, также обводя рукой что-то невидимое. (Достаточно ли восхищения на моем скифском лице?) И вправду, внезапно показа лось, что некая линия в голубом небе чуть потемнела, обозначилась, поднимаясь вверх. — Громадную вижу! (Либо от напряжения потемнело в глазах?)
— Действительно, видишь?
Я все еще не видел Арарата.
— Ну, пора, — сообщили мне.
Смущаясь, прошел я назад под арку. Мои приятели шли легко.
— Ах, если бы мы захватили с собой вино!
— То что же?
— То мы бы выпили тут, Господи.
Я посмотрел назад в последний раз: «Вот тот мир, где жили мы с тобою…»
Как конечно, что Ной приплыл как раз ко мне! Нет, он не сел на гора Арарата, он причалил. Он не знал второй почвы и приплыл на ту же почву.
Другие пейзажи за кормой, он не видел их, они не отражались на его сетчатке. Переселенец ставит новый сруб в том месте, в котором способен определить отчизну.
Страна не мелка для человека, если он хоть раз почувствует ее простор. «Тут я заметил мир», — говорят о отчизне.
Озеро Из центра Еревана, где все строения, думается, поставлены уже окончательно, все притерто и прижито, хорошо, прочно и совсем, мы попадаем в розовое однообразное младенчество новых районов, оттуда в пропыленный индустриальный пригород, а дальше у дороги вырастают крылья. Слева от дороги — левое крыло, справа — правое. В пейзаже Армении царствует линия, горизонт ее крылат.
Приподымется левое крыло — опустится правое.
Левое золотится на солнце, правое синеет в тени. Цвет изменяется сходу, довольно часто и нескончаем в оттенках, но пестроты никакой нет — в каждом собственном существовании он целен, общ.
Провалятся сквозь землю последние строения, покажутся виноградники, прикованные к цементным столбам (до чего же мало дерева в Армении!), а позже и виноградники внезапно пропадут. Лишь крылья дороги, лишь цвет и линия, лишь всплывают тёмные лужицы жары на взгорбах дороги. И такая единственность и подлинность данной страны опять и опять есть тебе, что подлинность эта думается уже чрезмерной.
А в то время, когда чувство рождается в человеке, то оно рождается одинаково и в другом, как рождалось неизменно. То же ощущает водитель, что ощущаю я и что ощущает мой дорогой друг. И кроме этого выразить это нечем.
И потому, что выразить нечем, чувство прибегает к цитированию.
— Все-таки как это прекрасно почувствовал Сарьян… — говорит мой дорогой друг. Никто по-новому неимеетвозможности. Все — как он.
И я думаю внезапно, что никакой трансформации художнического видения не потерпит эта натура — так она правильна. Быть в плену у данной безотносительной точности линии и цвета, должно быть, не под силу живописцу, а копия — неосуществима. Что ж, почва эта была уже создана один раз, и второго творца быть неимеетвозможности.
Мы поднимаемся в горы, они вырастают на горизонте, низкие и плавные; эти женственные линии сводят с ума. Ни при каких обстоятельствах бы не поразмыслил, житель, что влечение к почва так похоже на жажду. Без преувеличения, я страстно желаю слиться с нею, кроме того забрать ее силой.
Захватчик дремуч, неосознан, но зерно его тут. И в случае если во мне живет захватчик, то вот он…
Напряжение горной дороги внезапно ослабло, теснота распалась, горы отошли, мы въехали в равнину, и на горизонте в первый раз обозначилась прямая линия.
Такая дорога имела возможность привести меня в Апаран, Бюракан, Гехард. Такое чувство имело возможность привести меня лишь на Севан.
О эти известные места! Я их опасаюсь. Как бы скептически ни настраивал я себя, в дороге обязательно увеличивается ожидание некоего восхищения, счастья и откровения, позже все не совпадет, разочарует и распадется.
Разве в воспоминаниях опять оживет и раскрасится… какое количество видел я различных мелких Мекк, безлюдных, выпотрошенных, рассмотренных, как расстрелянных!
Слава убийственна не только для людей.
Севан приблизился ко мне, и я не испытывал ни потрясения, ни восхищения. Озеро. Прекрасное озеро.
Кроме того прекрасное. Но я больше слушал какую-то тревогу и тоску — невнятная и страшная возня поднималась во мне.
Свет… Через чур много света.
на данный момент я ловлю себя на том, что, в то время, когда сказал «цвет и линия», я не был точен. Я скорее следовал традиции, нежели собственному ощущению. Я скорее отдавал дань Сарьяну, чем натуре.
Возможно, моя склонность и привычка к северным гаммам не давала мне возможности оценить резкую подлинность красок юга. По крайней мере, ничего собственного в ощущении цвета в Армении у меня не было. Не смотря на то, что, само собой разумеется, я легко отдаю должное их подлинности по сравнению, к примеру, с красками отечественных поддельных черноморских субтропиков…
Обязан же я был сообщить: свет и линия.
Свет в Армении, возможно, главное мое зрительное чувство, основное физическое переживание. Заявить, что он через чур броский и его через чур много, — ничего не сообщить. Это свет особенного качества, которого я нигде ранее не встречал. Я вспоминал свет в Крыму, Средней Азии, снежных горах вот в том месте было большое количество света, броский свет, ослепительный, кроме того громкий свет, — но ни при каких обстоятельствах я его не переживал так, как в Армении.
В первый раз он был для меня чем-то таким же осязаемым, что ли, как вода, трава и ветер.
От него было не спастись, не деться, не укрыться. Более того, я как будто бы и не желал скрываться от него, не смотря на то, что он доставлял мне подлинные мучения: уже через два часа по окончании сна глаза болели, слипались и слепли и какая-то особенная усталость передавалась как раз через глаза всему телу. Кроме того чёрные очки я запрятал в первоначальный же сутки на дно чемодана, и не только вследствие того что не желал выделяться среди моих друзей, каковые их не носили: мне хотелось испытывать эту неясно сладкую муку, хотелось, дабы целый свет, до единого луча, прошел через меня за эти 14 дней, до часа и последнего дня.
И в случае если Армения — самое яркое место в моей жизни, то Севан — самое яркое в Армении.
Что-то противоестественное было в том, что я стоял на берегу Севана.[20]Что-то страшное было в самом Севане, его воде, свете и воздухе. Страшное как раз для меня. Я это сходу почувствовал, не смотря на то, что и не сходу понял словами.
Ничего разумеется сурового в нем не было. Была красивая погода. синь и Солнце небес.
Волна — маленькая в полной мере комфортная.
Кругом расположились топчаны, грибы, кабинки, тенты — пляжная цивилизация. У пирса находились белые как снег катера-такси. Рядом был ресторан с открытой террасой и немногими как будто бы для настроения посаженными в том направлении людьми.
На грифельной метеодоске было написано: «Температура окружающей среды 19, температура воды 17».
И все-таки не нужно мне было лезть в эту теплую воду. Как раз неосознанное чувство опасности, моей тут напрасности и ненужности толкало меня в воду. А что же?
Для чего же тут топчаны и тенты?
Вон и люди купаются. Такие же пляжные, как везде. В том-то и дело, что топчаны и тенты — ни к чему.
Вода обожгла по каким-то своим особенностям, не зависящим от температуры. Но чувство было таким же болезненно-приятным, как и мучение светом. Весьма похожи были эти два ощущения.
Это была уже не вода, а некое второе состояние неба.
Вылезал же я из воды человеком новым. Не обновившимся, не освежившимся — новым, вторым. То ли одно дело наблюдать с берега на воду, а второе — из воды на берег… Озноб усилился (тут я осознал, что он был и сперва).
Мой дорогой друг наблюдал на меня мягко-посторонним взором некупавшегося человека. Сильно вверх уходил склон, венчался монастырем, и светло синий небо именно в том месте начинало собственный купол, опрокинутый над Севаном. В противном случае чувство, что так неизвестно мелькало во мне — неуютство, ненужность, опасность, выяснилось стыдом.
Я не совершил ничего святотатственного. Мой дорогой друг питал зависть к мне, что я искупался, а он нет: не знаю уж, что ему помешало… Я же наряжался как-то смущенно и быстро, неудобно прыгал, путаясь в штанах и теряя равновесие.
Анализу это не поддавалось, стыдно было не перед кем и не за что, но стыд был стыдом.
Уже защитно-равнодушный, стоял я пара в стороне, пока вся компания оживленно спорила, выбирая катер; тут был тот же счастливо-базарный ритуал, что неоднократно на моих глазах предшествовал любому, кроме того самому несложному, мероприятию: ехать на такси либо в автобусе, идти в ресторан либо к себе, приобрести слив либо арбуз и т. д. Мы садились в один катер, позже вылезали и опять спорили. холод и Жар неясно соединялись в севанском воздухе, и эта чересполосица озноба была как прикосновение любимых рук- я стоял, отдаваясь данной страшной ласке, и уже как-то издали доносился до меня спор, как потрескивание огня в печи, и люди, рядом стоящие, внезапно как будто бы уносились в далекую возможность.
И вот я трогаю собственной посторонней пяткой постороннее нетвердое тело катера, да и то маленькое смущенное презрение к нему, которое я испытываю и показываю, по-видимому, должно означать мою непричастность к его искусственности, к радужным и тарахтению мотора нефтяным пятнам на воде. Мы одинаково чужие этому свету, воздуху и воде, и вот эту-то одинаковость мне и не хочется признавать.
Прекрасный шофер? водитель? капитан? лениво и чересчур пластично поднимается с нагретых досок, натягивает тугой свитер на собственные медные чудеса и, как бы не глядя на дам, проходит через нас и занимает собственный место у руля? штурвала? баранки? Он делается собственными скульптурными босыми ступнями на особую подушечку и, надавив какую-то через чур несложную кнопочку, которая уничтожила бы представление о сложности его дела, если бы он не был так величествен, выстреливает всеми нами в легкомысленной капсуле катера на середину озера.
Тут мы как бы останавливаемся и как бы не сами мчимся, а озеро начинает быстро поворачиваться около нас.
Отлетает за пояснице пляж с его мелким фанерным торжеством, мы стираем его с лица, как осеннюю паутину, и в то время, когда отнимаем руки…
Ветер с брызгами ударил нам в лицо, сапфировые непрозрачные волны трепали отечественное беленькое легкомыслие, как гусиное перо, а свора улетела… Улетела она за те зеленые, желтые горы, что дугой поворачивались около нас. Мы обогнули мыс, и он, совпав с линией берега замкнул залив в кольцо. Мы оказались в синей тарелке с белым, как выжженная кость, ободком — границей воды и суши.
Низкие толстые горы на солнце смотрелись уютно и надежно, а в тени другого берега супились и морщились.
Человека туг уже быть не имело возможности и не было. Наслаждаться Севаном нереально. Возможно лишь подглядеть.
И восхищение был сродни резкому колючему холоду брызг.
Вода выталкивала нас, как мусор.
Я посмотрел назад на спутников — и осознал, что у меня такое же лицо. В эти лица, расстегнутые и зеленые от счастья, обнажённые, как граница между загорелой и ни при каких обстоятельствах не загоравшей кожей, наблюдать было также запрещено — и по большому счету пора было поворачивать назад. Подглядели, и хватит.
И в то время, когда я ступил на жёсткую почву, чувство чужестранца, инопланетянина, незваного гостя, позорной праздности уже в полной мере сформулировалось во мне.
Опустевший пляж, всегда-то смотрящийся достаточно необычно, в окружении выжженной травы, синей воды и неба, безлюдья и для того чтобы молчащего монастыря над ним смотрелся неправдоподобно и страшно, как на сюрреалистической картине.
И данный немыслимый свет, вспыхнувший на белой прибрежной полосе!.. И как же я осознал того абстрактного русского мужика, закинутого ко мне роковой рукой профсоюза (где-то поблизости, немыслимый, такой же сюрреалистический, исторгнутый всей природой, был дом отдыха), — мужик отделился сейчас от столика, тёмный, как муха, до боли родной, и, шатаясь по данной костяной полосе, на этом ярком, ярком, ярком свете, запел упорно и истошно, стараясь перекричать данный свет: «А но-о-о-о-о-о-о-очка чёрная была!..»
И до тех пор пока мы закусывали, почему-то хотелось отвернуться от Севана и успокоить собственный взгляд на таком понятном ларьке…
Ничего, ничего не хотелось больше видеть! Большой звон натягивался и рвался в ушах, тёплый мороз гулял по пояснице, и в носу стрекотал кузнечик. И где-то во лбу тикало.
И уже направляясь к машине, стараясь не посмотреть назад на Севан, мы внезапно с обречённостью и тоскою свернули вправо и полезли вверх, к самому высокому и непосильному мгновению.
И в том месте, наверху, все провалилось сквозь землю. Провалилось время. Скрылся полуостров — и перешеек стал островом.
тенты и Ларьки сверху были как тот же мусор, выброшенный на берег, — работа моря.
Монастырь стоял уже вторую тысячу лет, как стоял он тут неизменно. Желтая, высокая трава окончательно обозначила ветер, что дул тут вторую тысячу лет, что дул тут неизменно.
Побледневшее и словно бы опустевшее к вечеру небо легко помещало в себе и ветер, и остров, и Севан под собою. Севан же темнел, пока светлело небо, и был в том месте внизу как распятая для просушки шкура, а белые лепестки высохшей кожный покров выворачивались трубочкой по краям.
Это было такое дикое, страшное, напряженное, натянутое как струна, звенящее место на земле, подставленное свету, как ветру, и ветру, как свету, место, которое имело возможность бы еще принять паломника, дабы обдуть с него пыль дорог, но праздного инопланетянина сдувало с него, как пыль, и оставалось таким же невиданным, таким же не-посещенным, как тысячу лет назад, как неизменно. Ослепительное, как зубная боль. Место для отчизны… Ни для чего больше оно не доходило.
Закладывает уши, слезятся глаза.
«Совершенно верно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иване Суровом, и при Петре», так же было холодно и светло синий, так же полегла желтая трава и в ту ночь, в то время, когда трижды отрекся Петр, перед тем как пропел петух, и в то время, когда чеховский студент подошел к тому костру на огороде…
Но ни при каких обстоятельствах не висел амбарный замок на дверях монастыря; не был похоронен под обелиском со звездочкой меж Двух древних могил с кудрявыми крестами капитан Севанского пароходства; не становился монастырский остров полуостровом; не пролегало по перешейку шоссе до самого берега этого острова (сейчас — подножия горы, где Дом отдыха); не стояла голубая комсомолка с веслом; не утекал Севан, как песок в песочных часах, обозначая узкое, как шейка тех же часов, отечественное время, оставляя мертвую костяную полосу между собой и горами…
Так светло не редкость лишь при зубной боли.
Закладывает уши, слезятся глаза.
«Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло…»
Великая поэзия неизменно конкретна. А образов никаких нет.
Гора Я должен был, как мне растолковали в Москве бывалые люди, заметить Арарат прямо на аэропорте. Легко первое, что я должен был заметить.
Но его в том месте не было.
И в Ереване я также должен был видеть его, но не видел.
Дымка прикрывала его, и в той стороне, где ему положено было быть, она голубела и сгущалась до мутноватой синевы, и казалось, что в том месте, за городом, — море.
Мне надеялось видеть его из окна собственного пристанища в ереванских Черемушках — дом стоял над городом, и нет ничего, что заслоняло взгляд. Из окна должен был быть хороший вид на Арарат, но его не было.
Мне надеялось видеть его с кругозора арки Чаренца, и я то ли видел, то ли так и не видел его.
И без того до последнего дня.
Я улетал первым рейсом и встал с восходом солнца.
И тогда я встретился с ним.
И громадную вершину, и мелкую.
Это выяснилось весьма нежданно. Он не был так уж органичен для того места, где так неожиданно вырос на прощание. Он казался инопланетянином.
Он был не таким лучезарным, как на этикетках либо фресках столичного ресторана «Арарат».
…Достаточно мрачная, насупленная гора, как будто бы обиженная открывшимся ей видом. Немногословная гора — как раз такое чувство обета молчания она на меня произвела. Может, это конечно для потухшего вулкана.
И позже — гора наблюдала. Я на нее, она на меня. И я ощущал себя неудобно.
Это, предположительно, случайное, однократное мое чувство, но мне было неясно, как она ко мне попала.
Как будто бы горе данной было нужно появиться и вырасти невольно, дабы подставить плечо ковчегу.[21]
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
Тезис
Я задаю себе вопрос: откуда берутся совершенства? Воспитание? Среда? Семья, школа, коллектив, общество?
Непременно — но тут-то и обнаруживается, что это не все. Не все растолковывает. Кое-что остается неясным.
Но как саднит, как болит, как терзает это кое-что!
Страсть. Ревность. Любовь.
Вот уж в то время, когда мы не принимаем жизнь таковой, как она имеется; вот уж в то время, когда у нас недостанет ума примерить трезвый опыт; вот в то время, когда страдание появится ниоткуда, нипочему, а объективность его будет столь очевидна, как принадлежность нам отечественного тела… Где же мы видели эту совершенную любовь? В то время, когда определили?..
Мастерство? Книги? Да, само собой разумеется, оттуда к нам подвигается идеал, что мы ищем позже в собственной жизни и не находим.
Тут, в мыслях, начинаю я перелистывать книги молодости и внезапно, нынешним-то, протрезвевшим и охладевшим взглядом обнаруживаю, что в книгах тех ничего-то именно о том и не писалось, что я в них когда-то вычитывал, как мечту. Эти книги были написаны такими же протрезвевшими в свое время людьми, как я — в собственный. Это молодость моя просматривала в них то, что желала, что было записано в ней самой…
Возможно расти сиротой, семья, среда могут быть трагически неподходящими юности и идеальному развитию детства, и, но, как раз в этом случае в полной мере вероятно зарождение грезы о счастье и совершенств красивого, ничем не подтвержденных в раннем и ласковом опыте.
Что же, совершенства эти появляются из одной только полярности, для равновесия, по законам диалектики?
Со школьной скамейки мы знаем, что общество и уродливая среда с редким постоянством рождали ярких людей каковые, исчислив неким, опущенным в книжке методом собственные совершенства, с упорством и непонятной наивностью не шли дальше, а возвращались с этим светом в ту же темень, из которой вышли, дабы светить людям, которым это было не требуется, каковые щурились, раздражались и самыми примитивными методами сводили просветителя на нет.
Тут также, на мой взор, все не вяжется одно с другим.
Как появляется идеал, если он в тебе не вежлив и в случае если опыт судьбы также неимеетвозможности привести нас к его лицезрению? Совершенства так как не существуют в жизни. Потому они и совершенства.
Может, они врожденны? И тогда воспитание, среда, опыт и жизнь — только благоприятные либо негативные условия для их обнаружения?
Природа идеала только неясна для материалиста…
Так неспешно я осознавал, что материализации идеала быть неимеетвозможности. Это кроме того через чур легко. По причине того, что все, что может материализоваться, уже не идеал.
В материальном мире идеал не существует.
Торжествуют же идеи — не совершенства.
Тогда где же он? Что заставляет меня и мучиться, и крутиться вправду как на сковороде? Из-за чего я не принимаю жизнь таковой, как она имеется, той, что происходит со мной, — так как более опыта и глубокого примера, чем собственный личный, у меня нет и мне не с чем сравнивать, не к чему ревновать?
В случае если я не видел и не знаю другую жизнь в той мере, как собственную, в чем же дело?
С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я собственную жизнь, дабы всегда твердить — не то, не так! — и обличать самого себя перед самим собой — никто же не видит! — так безумно?
Приходится признать существование в нас, и нигде больше, совершенного мира, населенного совершенным человеком, мира, доставшегося нам с рождения (по причине того, что появиться физически мы имели возможность где угодно) и только с различной степенью силы и полноты выявившегося в каждом из нас, дабы нам было с чем сличать и сравнивать собственную жизнь, и мучиться, и мучиться несовпадением, недостижением, запредельностью его. Что за мучение такое — быть человеком? Что такое болит совесть, мучает стыд, гложет тоска?
Откуда?
И где забрал я, как появился во мне образ некой горней страны, страны настоящих совершенств? В это же время страна эта всегда была рядом, где бы я ни был; легко страна, где все было тем, что оно имеется: камень — камнем, дерево деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком. Где труд был трудом и отдых — отдыхом, голод — голодом и жажда — жаждой, мужчина — мужчиной и дама — дамой.
Где всем камням, тварям и травам соответствовали как раз их назначение и сущность, где бы всем понятиям возвратился их исконный суть… Страна была рядом, и лишь меня в ней не было… При каких событиях покинул я эту страну? Как давно это произошло? Не помню.
Как я жил дальше? Не знаю. Я просыпался, я наблюдал не в окно, а на часы — утро, вечер ли? — я завтракал без аппетита, по причине того, что, дабы жить, нужно имеется.
Быть может, жить, дабы имеется. Я выходил на улицу — путник вышел из пункта А в пункт Б: нужно же куда-нибудь идти и что-нибудь делать! Вечером я брал человека за руку — я? брал? человека? за руку? — я наблюдал ему в глаза… Господи!
Кто это? Кого я беру за руку?
Мне пора было возвратиться.
Страна с одним городом, горою и озером, населенная моим втором! Я глотал пересохшие в горле слова и не имел возможности обрисовать тебя. Камень был камнем, свет — светом… Я отыскал слово «настоящий» и остановился на этом.
Я разговаривал с мужчиной, что был мужчиной, и разговаривал, как мужчина.
Мы ели с ним еду, которая была едой, и выпивали вино, которое было вином. Тогда, в признательности и все еще в суете, мне обязательно, нужно было нашарить слово, дабы накинуть, надеть, натянуть его на собственную радость, я сообщил: «Вот страна понятий…»
И не есть ли мой судорожный поиск обязательно одного слова, определения по отношению к данной стране и к данной эйфории косвенное подтверждение того, что так оно и имеется, что существует такое слово для данной страны, раз уж его так не достаточно моей суете?
Достаток
Это была маленькая тёмная слива, вернее, темно-светло синий, чернильного цвета слива; маленькая она была не вследствие того что недозрелая и небольшая, а вследствие того что принадлежала к такому достаточно весьма распространенному и известному сорту маленьких по размеру слив, пара более удлиненных, чем большие сливы, с островатыми финишами, пара менее сочных, кроме того суховатых, и более сладких.
Это был один из наибольших крытых ереванских рынков, архитектура которого, как и очень многое в ереванском современном градостроительстве, считается передовой и успешной. Особенно рынок нравился мне внутри, где казался весьма органичным, а решение и назначение предельно соответствовали друг другу, сливались. По окончании уличного света и жары — прохладная и какая-то весьма чистота и светлая тень, и необычная тишина.
И нет той кипящей и резкой судьбы открытого южного рынка с его солнцем, шумом, осами и толкотнёй.
Какие конкретно петли делает сравнение во времени, возвращаясь к самому себе! В случае если птичий базар был назван так в сравнении с человечьим, то в первую очередь не по многочисленности того и другого, а по тому ни с чем вторым, как между собой, не сравнимому звуку слитых голосов, слитых в таком полном беспорядке, что уже образующих гармонию. И в случае если птичье собрание было не с чем сравнить, как с рынком, то рынок мне не с чем сравнить, как с птичьим собранием.
Тысячи голосов, не различимых и не доносящихся до меня, уплывали вверх под высокие своды, в том месте сливались, отражались и медлительно падали вниз, и данный обращенный шум был так ласков, что не сходу достигал моего сознания, как шум моря и шум далекого птичьего базара (шум открытого рынка близок: словно бы ты ступил на берег, непрошеный гость, и вспугнул тысячи пернатых хозяев сходу). И большой свод, поддерживаемый красивыми и легкими стрельчатыми арками, и рассеянный, неясно откуда идущий свет, и данный мягкий ласковый шум нечайно наводили на идея о храме.
Эта маленькая слива лежала на вершине бережно сложенной пирамиды из совершенно верно таких же слив. Пожилая дама опрятного и хорошего вида выстроила эту пирамиду и сейчас стояла величественно и робко. Рядом, лишняя, топталась ее некрасивая дочь с каким-то неинтересным трепетом на лице.
Еще рядом пребывала суетная торговка травою, но тут уже проходила явная граница между травою и сливами.
Клиентов не было.
Хорошая дама сейчас именно скоро поймала скатившуюся было сливу и плавным, не лишенным величия перемещением поместила отечественную героиню на самый верх, по окончании чего пара безотчетным и весьма бережным перемещением придержала всю эту конструкцию сбоку и отпустила — пирамида застыла не дыша, подчиненная прекрасным законам трения…
Мы шли с втором по рынку, и изобилие юга в который раз поражало мое северное сердце. Чудо существования фрукта приводило к лёгкому головокружению. По-своему фрукты были заметнее в крытом рынке, чем на рынке.
Отсутствие солнечного света, в первую очередь подавляющего на рынке, как будто бы возвращало фруктам их личный свет (как раз свет, а не цвет).
Казалось, они светились изнутри, возвращая поглощенное солнце, сами мелкие солнца. И потому, что мое участие в торговле было невольно пассивным и о чем торговался мой дорогой друг со собственными соплеменниками и принцип его выбора были мне неясны, я всецело предавался созерцанию и восхищению.
Я начал классифицировать фрукты по принципу солнечности: помидор солнечнее огурца, а груша солнечнее яблока, но всех солнечнее, как ни необычно, абрикос — так рассуждал я… Отсутствие табличек с стоимостями всецело ликвидировало возможность моего участия в торге, но само по себе это отсутствие мне нравилось, обозначая некоторый первородный и живой принцип торговли, где сделка еще и какой-то альянс, родство и отношение. Мне тут все казались родственниками.
Если у вас слезятся глаза…
Удивительные статьи:
- Оставаться в счастливом не ведении. 2 страница
- Общая характеристика греческой мифологии
- Средневековые («рыцарские») баллады
Похожие статьи, которые вам понравятся:
-
У подножия недействующего вулкана 3 страница
Так выдохнуло нас наконец в яркое пространство, и мы разжались с поспешностью. Но тут уже, на просторе, начались рукопожатия и радостные оклики. Тут был…
-
У подножия недействующего вулкана 12 страница
В эту цельную глыбу города, в это живое тело вогнано три правильных клина, как в древней рабьей каменоломне. Трещины эти ширятся по ночам. Не так долго…
-
У подножия недействующего вулкана 9 страница
— Наблюдай! Чуть согнувшись, я посмотрел под арку. Нагибаться, но, не было потребности: человек обычного роста в полной мере имел возможность бы пройти…
-
У подножия недействующего вулкана 11 страница
Мы осмотрели трапезную, которую нам показали как бы с особым благодушием и большей симпатией: «Вот так они тут и кушали…» — это было страно и ясно. Мы…





